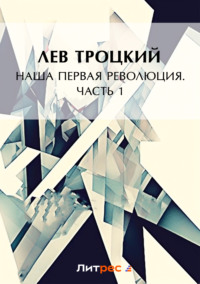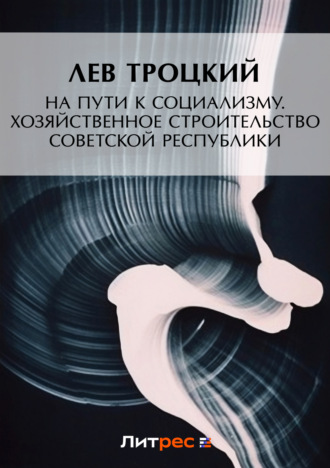 полная версия
полная версияНа пути к социализму. Хозяйственное строительство Советской республики
Если, таким образом, мрачные пророчества оказались в корне несостоятельными, то, с другой стороны, неоспоримо, что производительность труда сейчас, сегодня, в наших трудовых армиях еще достаточно низка. Однако, в высшей степени знаменательно, что в самый первый период она была гораздо ниже, чем теперь. Когда мы читали сводки первых дней и недель применения бывшей 3-й армии на фронте труда, то выходило, что для заготовки кубической сажени дров нужно 15, а иной раз 20 – 30 красноармейцев. Цифра совершенно чудовищная, если принять во внимание, что 3 – 4 человека на сажень считаются нормой. Но по проверке оказалось, что в первый период воинские части были расположены от своих трудовых участков на расстоянии 5 – 8 верст, так что на переход расходовалась значительная часть рабочего дня. Оказалось, что большинство красноармейцев, из степных губерний, не знали, как повалить дерево, как распилить, расколоть и т. д. На месте не было необходимых инструкторов. Хозяйственные органы оказались неподготовленными к применению воинских частей. Не хватало инструментов и пр. и пр. Этих причин совершенно достаточно, чтобы объяснить низкую производительность труда. Но возьмите последнюю сводку 1-й трудовой армии:[86] из нее вытекает, что сейчас уже на кубическую сажень дров приходится 5 1/2 рабочих. Рядом с красноармейцами работают мобилизованные по трудовой повинности крестьяне. Их на кубическую сажень приходится 7 человек, так что производительность труда красноармейцев сейчас уже выше. Тов. Гусев делает такое же наблюдение в своей книжке[87] о трудовой повинности.
И немудрено, ибо мы имеем перед собой не специализированных дровосеков, а воинскую часть, с одной стороны, и трудовую часть из мобилизованных крестьян, с другой. Большая точность военной организации, большая дисциплинированность, более высокий уровень развития, наконец, роль коммунистических ячеек – все это должно сказаться на результатах труда.
Самое важное для нас – это то, что производительность труда военно-трудовых частей систематически повышается по мере применения некоторых элементарных приемов. Я не говорю о научной организации труда – до нее еще очень далеко, но достаточно деловой, не бюрократической постановки дела, чтобы добиться очень значительных результатов.
Под трудармией мы понимаем применение армии для трудовых задач; но это вовсе не значит, что применяться должна армия в целом, как она есть. Мы с самого начала отдавали себе отчет в том, что применение всего армейского аппарата, крайне громоздкого, для трудовых задач окажется нецелесообразным, и до моей поездки, по поручению ЦК, на Урал, в качестве председателя совтрударма 1-й, в Реввоенсовете было решено, что вопрос о судьбе аппарата 3-й армии, превращенной в 1-ю трудармию, будет зависеть от положения на Кавказском фронте. Это был период временного замешательства, – вскоре мы даже сдали на короткое время Ростов. Если бы наше положение на Кавказе оказалось тяжелым, мы должны были бы перебросить 3-ю армию с открытием весенней навигации по Волге (потому что по железной дороге это было для нас почти неосуществимо), на Царицын – Астрахань. Мы поставили поэтому условием применения армии сохранение в неприкосновенности (до поры до времени) армейского аппарата. Этот последний занимал тем большее место в 3-й армии, что последняя была лишена главных своих воинских частей, переведенных на другие фронты. Отсюда понятно, почему 3-я армия дала на первых порах небольшое количество работников. Передо мною схема этой армии. На 100 % общего числа «едоков», занятых на административно-хозяйственных постах приходится почти 21 %; число людей суточного наряда (караульных и проч., при большом количестве армейских учреждений и складов) – около 16 %; число больных, главным образом тифом, – около 13 %. Отсутствующих по разным причинам – до 25 %. Таким образом, свободная для работы наличность составляла всего 23 %, – это максимум того, что можно было в тот период получить из данной армии. На самом деле работало в первое время около 14 %, главным образом из тех двух крупных воинских единиц, – стрелковой дивизии и кавалерийской, которые только и оставались еще у армии.
При первой возможности, т.-е. сейчас же после нанесения решающего удара Деникину на Кавказском фронте, мы армейский аппарат расформировали, передав обе дивизии Уральскому окружному военному комиссариату. Территорию Уральского округа мы несколько изменили в соответствии с хозяйственными потребностями Урала. И в дальнейшем мы при первой возможности будем поступать так же, т.-е. будем расформировывать армейские аппараты, выделяя из них ячейки, которые необходимы как органы трудового управления, как подсобный аппарат округа или областного центра. Под трудовой армией не нужно, стало быть, понимать перенесение на фронт труда армейского аппарата в целом. На этой почве уже происходят недоразумения. Тов. Гусев обвинял ЦК в том, что мы как будто отказываемся от трудармии – на том основании, что в резолюции ЦК говорится о необходимости, где возможно, заменять армейский аппарат более экономным аппаратом для трудового управления воинскими частями.
У нас сейчас действует уже ряд трудовых армий – 1-я, Петроградская, Украинская, Кавказская, Южно-Заволжская, Запасная, – последняя дала, как известно, значительное повышение провозоспособности Казанбургской дороги. И везде, где сколько-нибудь разумно был проделан опыт применения воинских частей для трудовых задач, результаты показали, что при рабоче-крестьянском государстве это путь безусловно правильный.
Что касается распределения военно-трудовых сил с точки зрения хозяйственных задач, то здесь в общем и целом можно установить соответствие с общим хозяйственным планом, о котором я говорил вначале: 35 % трудармейцев применяется для транспортных задач, около 30 % – для продовольственных, около 20 % – для промышленности, тоже в значительной мере связанной с транспортом, около 10 % – для земледельческих и около 5 % – на всякие другие задачи.
Чисто трудовые мобилизации представляют еще крайне мало обследованную область; продвигаться по ней нужно тщательно зондируя почву. Во всяком случае мы должны стремиться к тому, чтоб мобилизовать минимальное количество крестьянских рабочих сил, заменяя, где только возможно, мобилизацию – как правильно указывается в статье тов. Преображенского[88] в «Правде», трудовой разверсткой, трудовым нарядом, т.-е. обязывая волости и села на поставку определенного количества дров, на организацию гужевого транспорта и т. д. После выполнения этих задач соответственные волости и села на известный период освобождаются от трудовой повинности. Это фактически широко практикуется всюду. Но этот способ все же не разрешает вопроса о мобилизации рабочей силы. На Урале, например, населенность волости не соответствует, а находится скорее в обратном отношении к размеру лесного фронта, что заставляло при капиталистическом строе «задалживать» крестьян отдаленных волостей и уездов, чтоб в известное время года перебрасывать их в лесные места, поближе к заводам. Система «задалживания» уступила теперь место трудовой мобилизации. Задача заготовки древесного угля на Урале может быть разрешена, наряду со многими другими задачами, только на основе правильной организации трудовой повинности. Наш Главный комитет по трудовой повинности находится по отношению к этой области в таком же положении, в каком мы находились два года назад по отношению к Красной Армии: приходится еще только нащупывать почву, делать опыты и присматриваться. На местах уже накопился немаловажный опыт. Объединить этот опыт и обобщить его – есть дело исключительной важности. Главный комитет по трудовой повинности должен использовать всех работников настоящего съезда, которым есть что сказать по части проведения трудовой повинности. Необходимо в наш Главный комитет по трудовой повинности включить некоторое количество практиков с мест, дабы работа не выродилась в канцелярщину; с той же целью необходимо некоторых членов комитета послать на места. Руководящие линии ясны. Только тщательнейшая и детальнейшая проверка на опыте избавит нас от грубых и тяжелых ошибок, которые могли бы самым тяжким образом отразиться на работе.
V. От централизма трестов к социалистическому централизму
В своей работе на Урале я тверже, чем когда бы то ни было, убедился в том, что вопрос о волоките и бюрократизме в области нашего хозяйства не сводится вовсе к борьбе с отдельными бюрократами, с бюрократическими навыками каких-либо спецов и пр. – такое представление, довольно широко распространенное, крайне поверхностно. Каждый и всякий охотно готов подмахнуть резолюцию о борьбе с волокитой и бюрократизмом. Эта «борьба» приняла по этому довольно-таки бюрократический и волокитный характер. На самом деле беда заключается в том, что бюрократизм и волокита заложены в самую структуру наших хозяйственных учреждений. Как в области организации труда мы находимся в переходной стадии и применяем методы, которые должны рабочего отучить от навыков и приемов свободного рынка и приучить к применению его силы для планового хозяйства, так и в области организации самого производства конструкция наших хозяйственных органов еще носит на себе все черты переходного периода.
Наша промышленность сгруппирована в 53 главках или центрах,[89] которые соединены в 8 – 9 отделах. Эти главки и центры выросли из синдикатов и трестов буржуазно-капиталистической промышленности.[90] Они были расширены, видоизменены, дополнены, но в основу были заложены те организационные формы, которые имелись при капитализме в наиболее передовых отраслях промышленности. В первый период существования советского хозяйства наши главки и центры имели в значительной степени синдикатский характер: они распределяли продукты, – не те, которые производились, а те, главным образом, что остались от прошлого. Чем дальше, тем больше они принимают или стремятся принять характер трестов, которые организуют и нормируют – или пытаются организовать – производство в общегосударственном масштабе. Возвышаясь рядом друг с другом, эти 53 главка, уже охватывающие сейчас все основные отрасли нашего хозяйства, на вершине своей соединяются в трест всех трестов – Высший Совет Народного Хозяйства. По организационной идее главки объединяются только наверху, – внизу, с самого дна, нет никаких поперечных связей, никаких каналов, которые соединяли бы тресты или предприятия разных трестов друг с другом. Такой принцип организации хозяйства есть первый, грубый, черновой набросок социалистического, т.-е. планового хозяйства.[91] Такого рода сосредоточение всего управления в единой всеохватывающей верхушке предполагает, что центральный аппарат управления промышленностью является идеальным аппаратом учета и распределения в полном соответствии с единым хозяйственным планом. Другими словами, это предполагает, что под руками Рыкова и его коллег имеется идеальная клавиатура, так что, ударив по известному клавишу, можно в любое время перебросить надлежащее количество угля, дров, рабочей силы туда, где этого требует выполнение хозяйственного плана. Конечно, ни в одном ведомстве, а тем более в ведомстве ВСНХ, наиболее сложном и громоздком, такой идеальной социалистической клавиатуры еще, к сожалению, нет. Что при этом происходит? Трест капиталистический живет в атмосфере рынка: местные предприятия треста часть материалов и средств производства получают непосредственно из рук главного управления по оптовой закупке, другую часть покупают на местном рынке. Товары, покупаемые предприятиями треста, как и товары, продаваемые ими, совершают свое движение, подчиняясь течению рыночных цен. У нас этого нет и не может быть, ибо мы ликвидируем рынок плановым производством и распределением. Это есть величайшее завоевание. Упразднение вольного рынка есть упразднение конкуренции, спекуляции, эксплуатации. Но в то же время мы далеки еще от фактического проведения того единого хозяйственного плана, который окончательно преодолеет стихийную работу законов конкуренции. Из этого переходного состояния в условиях разрухи и нищеты вытекают все затруднения ВСНХ. Он вырабатывает хозяйственный план. Этот план продиктован централистическим взглядом на хозяйственные задачи. Но план на самом деле осуществляется на месте нередко в размере лишь 10 %. Мы имеем, стало быть, пока еще довольно платонический централизм, если план осуществляется в размере одной десятой части. Почему так происходит? Потому, что каждый наш хозяйственный план является пока что уравнением со многими неизвестными. Это не есть осуждение ВСНХ, – это только характеристика того, что есть на самом деле и чего не может не быть в переходную эпоху.
Как выглядит это уравнение со многими неизвестными, я наблюдал на Урале. Есть дрова, есть овес, есть пшеница, рабочие силы, заводы, оборудование; но все это не согласовано, не скомбинировано. Отсюда непропорционально малые результаты. Во время моего пребывания мне указывали на такой факт, например, что в одной приуральской губернии люди едят овес, в то время как в соседней – лошади едят пшеницу, и губпродком не имеет права перебросить пшеницу в соседнюю губернию и обменять на овес, в чем, казалось бы, не было ущерба планам Наркомпрода, потому что общая сумма обоих продуктов осталась бы той же самой, – только люди ели бы пшеницу, а лошади – овес, что, насколько известно, больше отвечает вкусам как тех, так и других. Этот анекдот выражает довольно ярко наши общехозяйственные затруднения организационного порядка, т.-е. такие, которые вытекают не из бедности и истощения, а из несогласованности и путаницы, из крайней незрелости нашего планового хозяйства. Сплошь да рядом выходит, что центр не знает, а места не смеют.
Местные хозяйственные органы запрашивают главки о том или другом разрешении: использовать материалы, перебросить оборудование или рабочую силу и пр. Главк, который не может ориентироваться во всем переплете связей и отношений, чтобы спасти положение, по общему правилу отмалчивается, опасаясь сказать что-либо невразумительное. Сколько приходилось слышать жалоб на то, что мы, мол, обращались несколько раз в центр – и никакого ответа. Конечно, неизвестно, донесла ли проволока самый запрос до Москвы, ибо и этот главк – почтово-телеграфный, крайне ослаблен войной и разрухой. Но если запрос доходит до сведения главка, то последний, как сказано, не всегда знает, что сказать.
Товарищи, то, что было до сих пор, длиться не может, особенно в районах, удаленных от центра. Мы сделали в этом отношении на последнем Съезде Советов шаг вперед, расширив самостоятельность местных хозяйственных учреждений. Эти решения должны быть проведены в жизнь, должны наполниться содержанием хозяйственного опыта. Главки-тресты должны не противопоставлять себя местным хозяйственным органам, а питаться их инициативой и оплодотворять их своей идейной и материальной поддержкой. Между главком и местным хозяйством, как и между предприятиями разных главков, на месте должна установиться местная связь, учитываемая центром и регулируемая его инструкциями.
Трестовский централизм именно благодаря своей прямолинейности вынуждает прибегать ко всяким чрезвычайным вспомогательным средствам. Одним из наиболее распространенных является посылка особоуполномоченных. Не имея возможности разобраться в многочисленных неизвестных своего хозяйственного плана, главк посылает на место своего особоуполномоченного. Эта советская категория, к которой я имел определенное отношение и раньше, стала мне окончательно ясна после моего пребывания на Урале. Я думаю, что институт особоуполномоченных нужно сдать в музей, где будут показывать, при помощи каких первобытных орудий Советская власть в первый период пыталась насаждать централизм. (Аплодисменты.)
Особо уполномоченных посылают решительно все ведомства, как только открывается новая неисследованная территория в виде Сибири или Урала. Теперь, после освобождения Беломорского и Мурманского края, каждое уважающее себя ведомство спешит послать туда своих уполномоченных. Каждый такой уполномоченный, как только приезжает, скажем, в Архангельск, весьма скоро отрывается от центра, уже хотя бы потому, что связь действует плохо. Ему вдогонку вскоре посылается второй уполномоченный, который, приехав на место, довольно энергично начинает мешать работе первого. Заводится склока, при чем особоуполномоченные не всегда имеют возможность снестись с центром, откуда необходим чрезвычайно-уполномоченный, чтобы их разнять. (Аплодисменты.) На Урале были такие случаи, когда уполномоченный ВСНХ наталкивался на другого уполномоченного одного из важнейших отделов ВСНХ, – они друг о друге совершенно не знают и каждый распоряжается по-своему. Но когда особоуполномоченный ВСНХ желает найти особоуполномоченного Наркомпрода – без которого он ничего не может сделать, так как без своевременной доставки продовольствия он не приведет в движение ни одного завода, то такого, крайне необходимого ему уполномоченного, он не находит. Несогласованность распоряжений разных центральных ведомств имеет нередко вопиющий характер. Такое положение абсолютно нетерпимо.
Я знаю, что товарищи, которые сочувствуют моим словам, состоят из представителей двух умонаклонений – одни, которые относятся к главкам и их уполномоченным с точки зрения чисто местной: «нельзя ли как-нибудь побоку весь централизм», и другие, стоящие на точке зрения более высокого централизма, который должен сменить нынешнюю, прямо-таки гибельную, главкократию,[92] являющуюся особой исторической формой злейшего бюрократизма. Эта переходная форма вынуждает нас вопить и стенать против бюрократизма; но, до тех пор пока мы не сделаем более гибким, более подвижным, более приспособленным к тому, что происходит на местах, самый аппарат хозяйственного управления, мы решительно никакого успеха в борьбе с бюрократизмом иметь не будем. Я уже сказал, что инструкции об отношении мест и центра, которые были выработаны ВСНХ на основе резолюций последнего Съезда Советов, открывают кое-какой просвет. Мы на них смотрим, как на серьезный шаг вперед в деле построения планового общегосударственного хозяйства, т.-е. на пути от главкократии и от централизма трестов к подлинному социалистическому централизму.
Другой способ приспособления центрального аппарата к местным условиям, придания большей гибкости нашим главкам и тем самым обуздания нашей главкократии, знаменуют собой областные хозяйственные органы, которые необходимо признать и создать и которые фактически создаются в ряде областей – только под другим флагом. Мы создали трудовые армии. По первоначальной мысли это – организации применения воинских сил на месте по заказу хозяйственных органов. На деле оказалось, что везде, где учреждены трудовые армии, немедленно вокруг них кристаллизуется областной хозяйственный центр. Мы в Екатеринбурге, можно сказать, не заметили, как через некоторое количество дней работы фактически превратились в областной хозяйственный орган, при чем каждый из ведомственных членов совтрударма по своей линии устанавливал, что это прекрасно, но почти запрещено, работа в высшей степени полезная, но почти нелегальная. Легализовать эту работу, т.-е. признать, что в отдаленных областях с ярко выраженной хозяйственной физиономией необходимы областные органы, – не на основе громоздкой выборности и восстановления старого эгоистического областничества, а на основе представительства сверху вниз, от основных хозяйственных центров, т.-е., другими словами, нужно, чтобы ВСНХ имел на Урале не того или иного временного уполномоченного, который догоняет другого, столь же временного уполномоченного, а чтобы там имелось постоянное полномочное представительство ВСНХ, мимо которого никакие особоуполномоченные не поднимали бы хаоса, и чтобы представитель ВСНХ был тесно связан с представителем Наркомпрода, Наркомпути, Наркомзема, чтобы при них был Уральский областной комитет по трудовой повинности, который в районе Урала мог бы производить трудовые мобилизации и перебрасывать рабочую силу из одного района в другой. Само собой разумеется, что как часть не может быть больше целого, так и хозяйственная агентура не может иметь больше прав, чем делегировавший ее центр, следовательно, отношение этой областной агентуры к местам должно определяться соответственными постановлениями последнего Съезда Советов. Словом, Совтрударм есть протянутый из центра орган, для того чтобы лучше видеть, что делается на местах, и для того чтобы, сообразно с этим, лучше применять силы и средства. Пусть это временный, но безусловно необходимый орган. Я заметил, что более слабые местные организации отмахиваются от создания областных органов, но более крепкие, т.-е. более рабочие губернии, понимают необходимость такого шага и поддерживают его.
VI. Коллегиальность и единоличие
Теперь позвольте остановиться на вопросе непосредственного управления промышленностью, ее предприятиями и объединениями предприятий. Этого вопроса касался с широкой исторической точки зрения тов. Ленин,[93] касались и товарищи, возражавшие ему. Я подойду не столько с теоретической, сколько с практической стороны к вопросу о коллегиальности и единоличии. Я должен прежде всего отвести одно обвинение, часто направляемое против тех, которые выступают в защиту единоличия. Некоторые товарищи говорят: «Это наши недавно рожденные партийные военспецы пытаются из военной области незрелый опыт свой перенести в хозяйственную область. Может быть, в военной области этот опыт хорош, но в хозяйственной он никуда не годится». Такое возражение неправильно во всех отношениях. Совершенно неверно, будто в армии мы начали с единоличия: даже и теперь мы еще далеко не целиком перешли к нему. Неверно и то, будто в защиту необходимости установления единоличных форм управления хозяйственными предприятиями с привлечением специалистов мы стали выступать на основании военного опыта. Я позволю себе тут сослаться на доклад, читанный на московской городской конференции именно по этому вопросу ровно два года тому назад, т.-е. тогда, когда об опыте военного строительства у нас еще не могло быть и речи. Вот что говорилось в докладе, который был одобрен московской городской конференцией: «Сейчас, в период, когда власть Советов обеспечена, борьба с саботажем должна выражаться в том, чтобы вчерашних саботажников превратить в слуг, в исполнителей, в технических руководителей там, где это нужно новому режиму. Если мы с этим не справимся, если не привлечем все те силы, которые нам необходимы, и не поставим их на советскую службу, то наша вчерашняя борьба с саботажем, борьба военно-революционная, была бы тем самым осуждена, как совершенно напрасная и бесплодная.
«Как и в мертвые машины, так и в этих техников, инженеров, врачей, учителей, вчерашних бывших офицеров, – вложен известный наш, народный, национальный капитал, который мы обязаны эксплуатировать, использовать, если мы хотим вообще разрешить основные задачи, которые стоят перед нами.
«Демократизация не состоит вовсе в том, – это азбука для всякого марксиста, – чтобы упразднять значение квалифицированных сил, значение лиц, обладающих специальными познаниями и замещать их выборными коллегиями везде и всюду.
«Выборная коллегия, состоящая из самых лучших представителей рабочего класса, но не обладающих необходимыми техническими познаниями, не может заменить одного техника, который прошел специальную школу и который знает, как делать данное специальное дело. Тот разлив коллегиальности, который наблюдается у нас во всех областях, является совершенно естественной реакцией молодого, революционного, вчера еще угнетенного класса, который отбрасывает единоличное начало вчерашних повелителей, хозяев, командиров и везде ставит своих выборных представителей. Это, говорю я, совершенно естественная и в источниках своих совершенно здоровая революционная реакция. Но это не есть последнее слово хозяйственного государственного строительства пролетарского класса.
«Дальнейший шаг должен состоять в самоограничении коллегиального начала, в здоровом и спасительном самоограничении рабочего класса, который знает, где может сказать решающее слово выборный представитель самих рабочих, и где необходимо очистить место технику, специалисту, который вооружен известными познаниями, на которого нужно возложить большую ответственность и который должен быть взят под длительный политический контроль. Но необходимо специалисту предоставить возможность свободной деятельности, свободного творчества, потому что ни один сколько-нибудь способный, даровитый специалист в своей области не может работать, подчиняясь в своей специальной работе коллегии людей, которые не знают этой области. Политический коллегиальный советский контроль всюду и везде, – но для исполнительных функций необходимо назначать специалистов-техников, ставить их на ответственные посты и возлагать на них ответственность.
«Те, которые боятся этого, – те бессознательно относятся с глубоким внутренним недоверием к советскому режиму. Те, кто думает, что привлечение к руководству техническими специальными постами вчерашних саботажников грозит самым основам советского режима, – те, с одной стороны, не отдают себе отчета в том, что не о какого-нибудь инженера, не о какого-нибудь вчерашнего генерала может споткнуться советский режим, – в политическом, в революционном, военном смысле советский режим непобедим, – а он может споткнуться на своей собственной неспособности справиться с творческими, организационными задачами.