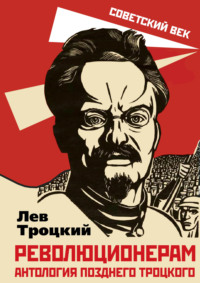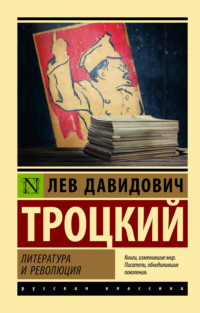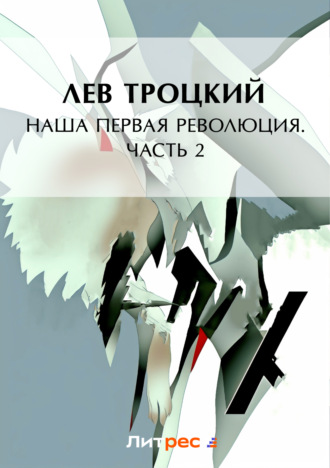 полная версия
полная версияНаша первая революция. Часть II
Открывая военные действия, социал-демократическая боевая организация расклеила по Москве воззвание, в котором давала технические указания повстанцам:
"1. Главное правило – не действуйте толпой. Действуйте небольшими отрядами, человека в 3 – 4, не больше. Пусть только этих отрядов будет возможно больше, и пусть каждый из них научится быстро нападать и быстро исчезать. Полиция старается одной сотней казаков расстреливать тысячные толпы. Вы же против сотни казаков ставьте одного-двух стрелков. Попасть в сотню легче, чем в одного, особенно если этот один неожиданно стреляет и неизвестно куда исчезает.
«2. Кроме того, товарищи, не занимайте укрепленных мест. Войско их всегда сумеет взять или просто разрушить артиллерией. Пусть нашими крепостями будут проходные дворы и все места, из которых легко стрелять и легко уйти. Если такое место и возьмут, то никого там не найдут, а потеряют много».
Тактика революционеров определилась сразу – из самого положения вещей. Наоборот, правительственные войска в течение целых пяти дней проявляли полную неспособность приспособиться к тактике противника и кровожадное варварство соединяли с растерянностью и бестолковостью.
Вот примерная картина боя. Идет грузинская дружина – одна из самых отчаянных, в составе 24 стрелков, идет открыто, парами. Толпа предупреждает, что навстречу едут 16 драгун с офицером. Дружина строится и берет маузеры на изготовку. Едва показывается разъезд, дружина дает залп. Офицер ранен; передние лошади, раненые, взвиваются на дыбы; в рядах замешательство, которое лишает солдат возможности стрелять. Таким образом дружина дала до 100 выстрелов и обратила драгун, оставивших несколько убитыми и ранеными, в беспорядочное бегство. «Теперь уходите, – говорит толпа, – сейчас привезут орудие». И действительно, скоро появляется на сцену артиллерия. После первого же залпа падают десятки убитых и раненых из безоружной толпы, которая никак не ожидала, что войска будут стрелять по ней. А в это время грузины уже в другом месте вступили в перестрелку с войсками… Дружина почти неуязвима, ибо окутана панцирем всеобщего сочувствия.
Вот еще пример, один из множества. Засевшая в здании группа дружинников из 13 человек в течение четырех часов выдерживала обстрел 500 – 600 солдат, в распоряжении которых было 3 пушки и 2 пулемета. Расстреляв все патроны и причинив войскам большой ущерб, дружинники удалились, не получив ни одной раны. А солдаты разгромили артиллерийским огнем несколько кварталов, подожгли несколько деревянных домов, истребили немало обезумевших от ужаса жителей, – все для того, чтобы вынудить к отступлению дюжину революционеров…
Баррикады не защищались. Они служили лишь препятствием для передвижения войск, особенно драгун. В районе баррикад дома были вне пределов досягаемости для артиллерии. Лишь обстреляв всю улицу, войска «брали» баррикады, чтоб убедиться, что за ними никого нет. Тотчас после удаления солдат баррикады снова восстановлялись. Систематический расстрел города дубасовской артиллерией начинается 10 декабря. Пушки и пулеметы действуют неутомимо, обстреливая улицы. Жертвы падают уже не единицами, а десятками. Растерянные и разъяренные толпы перебегают с места на место, не веря реальности совершающегося: итак, солдаты стреляют, – и притом не по отдельным революционерам, а по темному врагу, который называется Москвою – по ее домам, где живут и старики и дети, по безоружным уличным толпам… «Убийцы и трусы! Вот как они восстанавливают свою маньчжурскую славу!».
После первых пушечных выстрелов постройка баррикад принимает лихорадочный характер. Теперь размах работы шире, приемы смелее. Обрушивают большой фруктовый павильон, киоск газетчика, срывают вывески, ломают чугунные ограды, рвут верхние провода электрического трамвая.
«Вопреки распоряжению полиции – держать ворота на запоре, – сообщают реакционные газеты, – ворота вовсе сняты с петель и употреблены на постройку баррикад!». 11 декабря весь город в главных пунктах своих покрыт сетью баррикад. Целые улицы опутаны паутиной проволочных заграждений.
Дубасов объявляет, что всякая толпа «более чем в три человека» будет расстреляна. Но драгуны стреляют и по одиноким. Сперва обыскивают: не найдут оружия, – отпустят и пошлют вдогонку пулю. Стреляют в зевак, читающих объявления Дубасова. Достаточно, чтоб из окна раздался одинокий выстрел, нередко открыто провокаторский, – и дом немедленно подвергается обстрелу артиллерии. Лужи крови и мозги с волосами, прилипшие к вывескам, обозначают путь, по которому прошла шрапнель. В разных местах – дома с зияющими пробоинами. У одного из разрушенных зданий – страшная реклама восстания, – тарелка с куском человеческого мяса и надписью: «Жертвуйте пострадавшим!».
В течение двух-трех дней настроение московского гарнизона определилось неблагоприятно для восстания. С самого начала волнений в казармах военные власти приняли целый ряд мер: уволили запасных, вольноопределяющихся, неблагонадежных и стали лучше кормить остальных. Для подавления восстания были сперва пущены в дело только наиболее надежные части. Сомнительные полки, лишенные наиболее сознательных элементов, сидели в казармах. Их Дубасов пустил в ход уже во вторую очередь. Сначала они шли неохотно и неуверенно. Но под влиянием случайной пули, агитации офицера, на почве голода и усталости, они доходили до страшной жестокости. Дубасов дополнял влияние этих условий действием казенной водки. Драгуны все время были полупьяны.
Партизанские нападения, однако, не только озлобляют, но и утомляют, всеобщая враждебность населения ввергает солдат в уныние; 13-е – 14-е декабря были критическими днями. Смертельно усталые войска роптали и отказывались идти в бой с врагом, которого они не видели и силы которого страшно преувеличивали. В эти дни было несколько случаев самоубийства среди офицеров…
Дубасов доносил в Петербург, что из 15 тыс. душ московского гарнизона в «дело» можно употребить только 5 тысяч, так как остальные ненадежны, и просил присылки подкреплений. Ему ответили, что часть петербургского гарнизона отправлена в Прибалтийский край, часть ненадежна, а остальные самим нужны. Благодаря похищенным в военном штабе документам эти переговоры стали известны в городе уже на другой день и влили бодрость и надежду в сердца. Но Дубасов добился своего. Он потребовал, чтоб его соединили по телефону непосредственно с Царским Селом, и заявил, что не ручается за «целость самодержавия». Тогда был дан приказ отправить в Москву Семеновский гвардейский полк.
15 декабря положение резко изменилось. В надежде на Семеновский полк реакционные группы Москвы воспрянули духом. На улицах появляется вооруженная милиция, набранная из трущобного сброда Союзом Русского Народа. Активные силы правительства возросли благодаря стянутым из ближайших городов войскам. Дружинники изнемогали. Обыватель устал от страха и неизвестности. Настроение рабочих масс падало, надежда на победу исчезла. Открылись магазины, конторы, банки, биржа. Движение на улицах оживилось. Вышла одна из газет. Все почувствовали, что баррикадная жизнь кончилась. В большей части города пальба затихла. 16 декабря, с прибытием войск из Петербурга и Варшавы, Дубасов становится полным хозяином положения. Он переходит в решительное наступление и совершенно очищает центр города от баррикад. Сознавая безнадежность положения, Совет и партия постановляют в этот день прекратить забастовку 19 декабря.
Во все время восстания Пресня, этот Монмартр Москвы,[76] жила своей особой жизнью. 10 декабря, когда в центре уже раздавалась пушечная стрельба, на Пресне царило еще спокойствие. Митинги шли своим чередом, но они уже не удовлетворяли массу. Она жаждала действий и осаждала депутатов. Наконец, в 4 часа дня был получен приказ из центра: строить баррикады. Все ожило на Пресне. Здесь не было той беспорядочности, которая царила в центре. Рабочие разбились на десятки, выбрали начальников, вооружились лопатами, ломами, топорами – и в порядке выступили на улицы, точно на муниципальные работы. Никто не стоял без дела. Бабы выносили на улицу сани, дрова, ворота. Рабочие пилили и рубили телеграфные и фонарные столбы. Стук топоров стоял во всей Пресне, – казалось, будто рубят лес.
Отрезанная от города войсками, сплошь покрытая баррикадами, Пресня превратилась в пролетарский лагерь. Всюду были установлены дежурства дружинников; по ночам вооруженные часовые расхаживали между баррикадами и спрашивали у прохожих пароль. Наибольшим воодушевлением выделялись девушки-работницы. Они любили ходить на разведки, заводили разговоры с полицейскими и добывали таким путем полезные сведения. Сколько вооруженных дружинников действовало на Пресне? Человек 200, не более. В их распоряжении было до 80 винтовок и маузеров. Несмотря на такую малочисленность активных сил, стычки с войсками шли непрерывно. Солдат обезоруживали, сопротивляющихся убивали. Разрушенные баррикады восстанавливались рабочими. Дружинники строго придерживались партизанской тактики: разбивались на группы в 2 – 3 человека, стреляли по казакам и артиллеристам из домов, дровяных складов, пустых вагонов, быстро меняли место и снова осыпали солдат выстрелами… 12 декабря дружинники отбили у драгун и артиллеристов пушку. Четверть часа они возились вокруг нее, не зная, что с ней делать. Из затруднения их вывел большой отряд драгун и казаков, который завладел орудием.
13 декабря вечером пресненская дружина привела на фабрику 6 взятых ею в плен артиллеристов. Их накормили за общим столом. Во время обеда говорили речи политического характера. Солдаты слушали внимательно и с сочувствием. После ужина их отпустили без обыска и с оружием: не хотели озлоблять.
Вечером 15 декабря дружинники арестовали на улице начальника охранного отделения Войлошникова, произвели обыск на его квартире, конфисковали карточки поднадзорных и 600 рублей казенных денег. Войлошников был тут же приговорен к смертной казни и расстрелян во дворе Прохоровской фабрики. Он выслушал приговор спокойно и встретил смерть мужественно, – благороднее, чем жил.
16-го начался пробный артиллерийский обстрел Пресни. Дружинники ответили энергичным огнем и заставили артиллерию отступить. Но в этот же день стало известно, что Дубасов получил из Петербурга и Варшавы большие подкрепления, и настроение стало падать. Началось повальное бегство ткачей в деревню. По дорогам потянулись толпы пешеходов с белыми котомками за плечами.
В ночь на 17-е Пресня была окружена железным кольцом правительственных войск. В седьмом часу утра открылась жестокая канонада. Артиллерия делала до 7 пушечных выстрелов в минуту. Это продолжалось с часовым перерывом до 4-х часов дня. Разгромили и подожгли ряд фабрик и жилых домов. Палили с двух сторон. Пресня – вся в дыму и огне – походила на ад. Дома и баррикады объяты пламенем, женщины и дети мечутся по улицам в клубах черного дыма, под гул и треск выстрелов. Зарево стояло такое, что можно было далеко в окружности поздним вечером читать, как днем. Дружина до 12 часов дня успешно выступала против пехоты, но под ее непрерывным огнем вынуждена была прекратить боевые действия. С этого времени под ружьем оставалась лишь небольшая группа дружинников, за свой страх и риск.
К утру 18-го Пресня была очищена от баррикад. «Мирному» населению был открыт выход из Пресни; по неряшливости выпускали даже без обысков. Первыми вышли дружинники, некоторые даже с оружием. Дальнейшие расстрелы и насилия разнузданной солдатчины производились уже тогда, когда ни одного дружинника на Пресне не было.
Семеновцы-усмирители, действовавшие на железной дороге, получили приказ: «Арестованных не иметь, действовать беспощадно». Сопротивления они нигде не встречали. В них не сделано было ни одного выстрела, тем не менее они убили по линии около 150 душ. Расстреливали без следствия и суда. Извлекали раненых из санитарных вагонов и добивали их. Трупы валялись неподобранными. Среди расстрелянных петербургскими гвардейцами был машинист Ухтомский, который умчал на паровозе от преследований боевую дружину, развив под выстрелами пулеметов бешеную скорость. Перед расстрелом он рассказал палачам про свой подвиг: «Все спаслись, – спокойно и гордо закончил он, – вам не достать их».
Восстание в Москве длилось 9 дней – с 9-го по 17-е. Как велики были собственно боевые кадры московского восстания? В сущности ничтожны. 700 – 800 душ входили в партийные дружины: 500 социал-демократов, 250 – 300 социалистов-революционеров, около 500 вооруженных огнестрельным оружием железнодорожников действовали на вокзалах и по линиям, около 400 вольных стрелков из типографских рабочих и приказчиков составляли вспомогательные отряды. Были небольшие группы вольных стрелков. Говоря о них, нельзя не упомянуть четырех добровольцев, черногорцев. Отличные стрелки, бесстрашные и неутомимые, они действовали группой, убивая исключительно полицейских и офицеров. Двое из них были убиты, третий ранен, у четвертого погиб винчестер. Ему дали новую винтовку, и он стал один ходить на свою страшную охоту. Каждое утро ему выдавали 50 патронов, – он жаловался, что мало. Он был точно в чаду. Плакал по погибшим товарищам и мстил за них страшной местью.
Каким же образом небольшой отряд дружинников мог полторы недели бороться с многотысячным гарнизоном? Разрешение этой революционной загадки – в настроении народных масс. Весь город с его улицами, домами, заборами, проходными воротами вступает в заговор против правительственных солдат. Миллионное население становится живой стеной между партизанами и регулярными войсками. Дружинников сотни; но в постройке и восстановлении баррикад уже участвуют массы. Еще большие массы окружают активных революционеров атмосферой деятельного сочувствия и, чем могут, вредят правительственным планам. Из кого они состоят, эти сочувствующие сотни тысяч? Из мещанства, интеллигенции и прежде всего из рабочих. На стороне правительства оказывается, помимо продажной уличной черни, только верхний капиталистический слой. Московская городская дума, еще за два месяца до восстания блиставшая радикализмом, теперь решительно становится в свите Дубасова. Не только октябрист Гучков, но и г. Головин,[77] будущий кадетский председатель Второй Думы, входит в совет при генерал-губернаторе.
Каково число жертв московского восстания? В точности оно неизвестно и никогда не будет установлено. По данным 47 лечебниц и больниц зарегистрировано 885 раненых, 174 убитых и умерших от ран. Но убитых принимали в больницы только в редких случаях; по общему правилу они лежали в полицейских участках и оттуда увозились тайком. На кладбище похоронено за эти дни 454 человека убитых и умерших от ран. Но много трупов вагонами вывозили за город. Вряд ли ошибка будет велика, если мы предположим, что восстание вырвало из среды московского населения около тысячи душ убитыми и столько же ранеными. Среди них 86 детей, в их числе грудные младенцы. Эти числа станут ярче, если вспомнить, что на мостовых Берлина в результате мартовского восстания 1848 г., когда прусский абсолютизм получил неизлечимую рану, осталось лишь 183 трупа… Число жертв, понесенных войсками, правительство утаило, как и число жертв революции. Официальный отчет говорит лишь о нескольких десятках убитых и раненых солдат. На самом деле их было несколько сот. Цена не слишком крупная, ибо ставкой была Москва, «сердце России».
Если оставить в стороне окраины (Кавказ и Прибалтийский край), декабрьская волна нигде не поднималась до такой высоты, как в Москве. Баррикады, перестрелка с войсками, артиллерийская стрельба имели, однако, место еще в целом ряде городов: в Харькове, Александровске, Нижнем Новгороде, Ростове, Твери…
После того как восстание было всюду сломлено, открылась эра карательных экспедиций. Как показывает это официальное название, цель их – не борьба с врагами, а месть побежденным. В Прибалтийском крае, где восстание вспыхнуло за две недели до московского, карательные экспедиции разбились на мелкие отряды, которые исполняли кровавые поручения подлой касты остзейских баронов, поставляющих самых зверских представителей русской бюрократии. Латышей, – рабочих и крестьян – расстреливали, вешали, засекали розгами, забивали палками, гоняли сквозь строй, казнили под звуки царского гимна. В течение двух месяцев в Прибалтийских губерниях – по крайне неполным сведениям – казнено 749 человек, сожжено дотла более 100 усадеб, засечено плетьми множество людей.
Так абсолютизм божьей милостью боролся за свое существование. С 9 января 1905 г. до созыва Первой Государственной Думы, 27 апреля 1906 г., – по приблизительным, но во всяком случае не преувеличенным расчетам – царским правительством убито более 14 тыс. человек, казнено более тысячи, ранено около 20 тыс. (из них многие умерли), арестовано, сослано, заточено – 70 тыс. человек. Цена не слишком крупная, ибо ставкой было существование царизма.
«1905».
IV. Совет и революция
1. Совет перед судом реакции
Л. Троцкий. ПРОЦЕСС СОВЕТА РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ
3-е декабря открывает эру контрреволюционного заговора арестом Совета Рабочих Депутатов. Декабрьская стачка в Петербурге и ряд декабрьских восстаний в разных частях страны были героическим усилием революции удержать за собою все те позиции, которые она завоевала в октябре. Руководство рабочими массами Петербурга перешло в это время ко второму Совету, который составился из остатков первого и из вновь избранных депутатов. Около трехсот членов первого Совета сидели в трех тюрьмах Петербурга. Их дальнейшая судьба была долгое время загадкой не только для них, но и для правящей бюрократии. Министр юстиции, как утверждала осведомленная пресса, решительно отвергал возможность предания рабочих депутатов суду. Если их совершенно открытая деятельность была преступной, то сплошным преступлением была, по его мнению, роль высшей администрации, которая не только попустительствовала Совету, но и входила с ним в прямые сношения. Министры препирались, жандармы вели дознание, депутаты сидели по своим одиночным камерам. В эпоху декабрьских и январских карательных экспедиций были все основания думать, что Совет попадет в петлю военного суда. В конце апреля, в первые дни Первой Думы, рабочие депутаты, как и вся страна, ждали амнистии. Так качалась судьба членов Совета между смертной казнью и полной безнаказанностью.
Наконец, она нашла свою равнодействующую. Думское или, вернее, антидумское министерство Горемыкина[78] передало дело Совета на рассмотрение Судебной Палаты с участием сословных представителей{17}. Обвинительный акт по делу Совета, этот жалкий продукт жандармско-прокурорской юридической стряпни, интересен как документ великой эпохи. Революция отразилась в нем, как солнце в грязной луже полицейского двора. Члены Совета обвинялись за подготовку к вооруженному восстанию по двум статьям, из которых одна грозила каторгой до 8, а другая – до 12 лет. Юридическую постановку обвинения, или, вернее, ее абсолютную невозможность, автор этих строк разобрал в небольшом докладе{18}, переданном им из дома предварительного заключения в распоряжение социал-демократической фракции Первой Думы для запроса по поводу суда над Советом. Запрос не состоялся, так как Первая Дума была разогнана, и социал-демократическая фракция сама оказалась под судом.
Процесс был назначен на двадцатое июня, при открытых дверях. Волна митингов протеста прокатилась по всем заводам и фабрикам Петербурга. Если прокуратура пыталась представить Исполнительный Комитет Совета как группу конспираторов, навязывавших массе чуждые ей решения; если либеральная печать после декабрьских событий изо дня в день твердила, что «наивно революционные» методы Совета давно потеряли обаяние в глазах массы, которую обуревает стремление ввести свою жизнь в русло нового, «конституционного» права, – то каким прекрасным опровержением полицейских и либеральных клевет и глупостей были июньские митинги и резолюции петербургских рабочих, посылавших со своих фабрик клич солидарности своим представителям в тюрьму, требовавших суда над собою, как над активными участниками революционных событий, заявлявших, что Совет был только исполнителем их воли, и клявшихся довести работу Совета до конца!
Двор суда и прилегающие улицы были превращены в военный лагерь. Все полицейские силы Петербурга были поставлены на ноги. Несмотря на эти колоссальные приготовления, процесс не состоялся. Придравшись к нескольким формальным поводам, председатель Судебной Палаты, против желания обвинения и защиты и даже против воли министерства, как оказалось впоследствии, отложил слушание дела на три месяца – до 19 сентября. Это был тонкий политический ход. В конце июня положение было полно «неограниченных возможностей»: кадетское министерство казалось такой же вероятностью, как и реставрация абсолютизма. Между тем процесс Совета требовал от председателя вполне уверенной политики. Этому последнему ничего не оставалось, как дать истории еще три месяца на размышление. Увы! – дипломатическому кунктатору пришлось уже через несколько дней покинуть свой пост! В пещерах Петергофа направление вполне определилось: там требовали решительности и беспощадности.
Процесс, открывшийся 19 сентября при новом председателе, длился целый месяц, в самый острый период первого междудумья, в медовые недели военно-полевых судов. И тем не менее, судебное разбирательство, в отношении целого ряда, если не всех вопросов, велось с такой свободой, которая была бы совершенно непонятна, если бы за ней нельзя было нащупать пружину бюрократической интриги: министерство Столыпина, по-видимому, таким путем отбивалось от атак графа Витте. Тут был непогрешимый расчет: чем больше развертывался процесс, тем выпуклее он воспроизводил картину правительственного унижения в конце 1905 года. Попустительство Витте, его интриги на две стороны, его фальшивые заверения в Петергофе, его грубые заискивания перед революцией, – вот что высшие бюрократические сферы извлекли из суда над Советом. Подсудимым оставалось только в политических целях использовать благоприятное положение и как можно шире раздвинуть рамки процесса.
Было вызвано около 400 свидетелей, из которых свыше 200 явились и дали показания{19}. Рабочие, фабриканты, жандармы, инженеры, прислуга, обыватели, журналисты, почтово-телеграфные чиновники, полицеймейстеры, гимназисты, гласные думы, дворники, сенаторы, хулиганы, депутаты, профессора и солдаты дефилировали в течение месяца перед судом, и под перекрестным огнем вопросов со скамей суда, прокуратуры, защиты и подсудимых – особенно подсудимых – они линия за линией, штрих за штрихом, восстановили столь богатую событиями эпоху деятельности рабочего Совета.
Пред судом прошла всероссийская октябрьская стачка, похоронившая Булыгинскую Думу, ноябрьская стачечная манифестация в Петербурге – этот благородный и величественный протест пролетариата против военно-полевого суда над кронштадтскими матросами и насилия над Польшей; затем героическая борьба петербургских рабочих за восьмичасовой рабочий день; наконец, руководимое Советом восстание все выносящих рабов почты и телеграфа. Протоколы заседаний Совета и Исполнительного Комитета, впервые оглашенные на суде, раскрыли пред страной ту колоссальную будничную работу, которую совершало пролетарское представительство, организуя помощь безработным, регулируя конфликты между рабочими и предпринимателями, руководя непрерывными экономическими стачками.
Стенографический отчет о процессе, который должен составить несколько объемистых томов, до сих пор еще не издан. Только изменение политических условий в России может освободить из-под спуда этот неоценимый исторический материал. Немецкий судья, как и немецкий социал-демократ, – были бы одинаково поражены, если бы попали во время процесса в зал суда. Утрированная строгость причудливо переплелась с полной распущенностью, и обе они с разных сторон характеризовали ту поразительную растерянность, которая все еще царила в правительственных сферах, как наследие октябрьской стачки. Здание суда было объявлено на военном положении и фактически превращено в военный лагерь. Несколько рот солдат и сотен казаков во дворе, у ворот, на прилегающих улицах. Жандармы с шашками наголо везде и всюду: вдоль всего подземного коридора, соединяющего тюрьму с судом, во всех помещениях суда, за спинами подсудимых, во всех оборотах, вероятно, даже в дымовой трубе. Они должны были образовать живую стену между подсудимыми и внешним миром, в том числе и той публикой, в количестве 100 – 120 душ, которая была допущена в зал заседаний. Но 30 – 40 черных адвокатских фраков поминутно разрывают синюю стену. На скамье подсудимых появляются непрерывно газеты, письма, конфеты и цветы. Цветы без конца! в петлицах, в руках, на коленях, наконец, просто на скамьях. И председатель не решается устранить этот благоуханный беспорядок. В конце концов, даже жандармские офицеры и судебные пристава, совершенно «деморализованные» общей атмосферой, начали передавать подсудимым цветы.
А затем свидетели-рабочие! Они скоплялись в свидетельской комнате десятками, и когда судебный пристав открывал дверь зала заседаний, волна революционной песни докатывалась иной раз до председательского кресла. Удивительное впечатление производили эти рабочие-свидетели! Они приносили с собой революционную атмосферу фабричных предместий и с таким божественным презрением нарушали мистическую торжественность судебного ритуала, что желтый, как пергамент, председатель только беспомощно разводил руками, а свидетели из общества и либеральные журналисты смотрели на рабочих тем взглядом уважения и зависти, каким слабые смотрят на сильных.