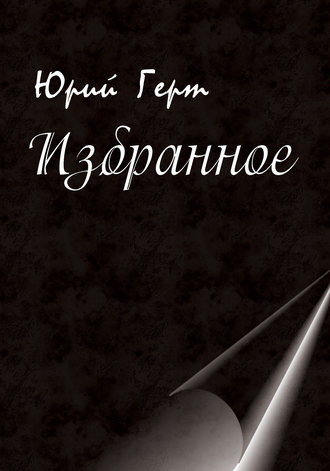
Полная версия
Избранное
– Есть разные мнения, – продолжал Толмачев. – Послушаем каждого, я тоже выскажу свое мнение, потом послушаем Герта.
Все было для меня неожиданно: и объявленное внезапно обсуждение, и то, что после всех сотрудников выступит главный редактор, а уж потом дадут слово мне… Такое странное выделение моей персоны меня озадачило. С чего бы это?..
– Кто хочет первый? – пригласил Толмачев. Все молчали.
– Тогда по порядку. Кто у нас крайний слева?.. Киктенко?..
– Я за публикацию, – с готовностью откликнулся молодой (хотя и не так чтобы очень уж молодой) поэт Слава Киктенко, сидевший в углу, полузагороженный книжным шкафом. – Кое-где… если надо… можно сделать в тексте купюры, а вообще – я «за».
Мы никогда не испытывали друг к другу особой симпатии. Но как бы там ни было – бесспорно, что он умница и талант, у него вышло несколько сборников стихов, последний – в Москве. Ему лет тридцать пять, он грузноват, жирок смягчает черты его лица, круглит фигуру. У него темные, слегка сонные глаза с маслянистым блеском, но они холодно и внимательно наблюдают за всем происходящим. Он эрудит, прочитал бездну книг – Фихте, Кант, Федоров… Соловьев, Бердяев, Лосев… И т. д. и т. п.
– У русской прессы издавна существовала одна традиция… – солидно поправив очки, добавляет он. (Ну-ка, – думаю я, – что же это за традиция?.. Вступаться за обиженных? Бросать перчатку правительству? Идти под арест за свои убеждения?..) Там, – продолжает Киктенко, – где по цензурным соображениям делался пропуск, принято было ставить квадратные скобки…
Так-так… Вот в чем, оказывается, славные традиции русской прессы…
– Я тоже – «за», – присоединился к Славе Киктенко новичок в журнале Женя Гусляров, до того работавший в партийной газете.
Ну, что же… В конце концов, и того, и другого принимал в редакцию Толмачев…
– Я, правда, еще не прочитал, не успел, но если все за публикацию, так и я, – как все громко, с напором проговорил Юра Рожицын.
Всегда мне нравилась его грубоватая прямота, нравился он сам – крепкий, высокий сибиряк, шестидесяти примерно лет, фронтовик… Я немало способствовал его появлению в редакции, помогал – иной раз переламывая себя – пробиться на страницы журнала некоторым его довольно посредственным «военным повестям», зная, что лет десять назад написал он отличную вещь из времен коллективизации, и это – главное. Прежний редактор, перед которым я пытался ее отстоять, заклеймил меня «прямым троцкистом» (в те времена не имелось клейма более позорного…), но полгода назад усилиями всей редакции ее удалось напечатать – и Рожицын был наконец по достоинству оценен. Мы проработали в отделе прозы лет шесть-семь, отношения между нами всегда сохранялись товарищеские, чтобы не сказать больше… С недавних пор его выбрали в журнале парторгом.
– Я – «за», – коротко произнес Виктор Мироглов, среди собравшихся – мой самый близкий друг… Я не спрашивал – после того разговора – удалось ли ему прочесть Цветаеву и что он думает по ее поводу. Теперь я это знал.
– «За», – с победной ухмылкой простуженным тенорком бросил Карпенко, не так давно вернувшийся из Москвы после литературных курсов и два-три месяца работающий в редакции, в отделе критики.
Естественно… Да от него я ничего другого не ждал.
– Я за то, чтобы печатать Цветаеву всю, целиком и полностью! – четко, чуть не по слогам произнес Валерий Антонов, глядя на меня в упор. Его глаза, налитые сухим огнем, меня поразили – столько было в них злобного восторга, такая радость от возможности наконец-то излить, выплеснуть мне в лицо затаенную, скопленную в душе ненависть… Я чуть не вскинул руку, загораживаясь от режущего, слепящего сияния.
Все, все я мог предположить, но чтобы Антонов… Тот самый Валерий Антонов, с которым столько лет, считал я, связывает меня несокрушимая, взаимная, искренняя приязнь… Чтобы и он…
Ну, нет, – подумал я, – много вы на себя берете, ребятки…
И когда Ростислав Петров, наш ответственный секретарь, с которым, как и с Антоновым, соединяли меня долгие годы работы и совместно пережитого, когда он, замыкая круг, в своей обычной, раздумчивой манере, не отрывая опущенных глаз от разложенных на столу бумаг, сказал, что тоже полагает – надо, надо печатать… Только, возможно, придется произвести некоторые сокращения… – кроткий, укоризненный взгляд в мою сторону… – тут я не стал дожидаться, пока он кончит журчать и начнет высказываться Толмачев.
– Нет уж, – сказал я, – уж вы простите меня, Геннадий Иванович, но к чему нарушать привычный порядок…
Он оказался как бы отстраненным на время мною от дирижирования послушным оркестром.
– Я против публикации в любом виде, – сказал я, отчетливо сознавая в тот момент, что не проблема публикации здесь обсуждается, а нечто другое, мало связанное с Мариной Цветаевой. – Мое мнение – вещь эта антисемитская. Публикация ее в массовом журнале сейчас, когда национальные вопросы так обострены и болезненны, противоречит духу перестройки. Апелляция к черносотенству не вяжется с позицией, которую до сих пор занимал журнал. Из этого следует, что если все – за публикацию, а я один – против, то дальше работать в редакции я не могу. Не могу и не хочу. Но учтите: эта публикация будет на руку «Памяти»…
– Ты оскорбляешь всю редакцию! – вскочил Рожицын. – Думай, что говоришь! – Голос его содрогался от ярости.
– Да и потом еще неизвестно, какая у «Памяти» программа! – поддержал его сидевший рядом Виктор Мироглов. Его басок звучал добродушно-насмешливо. – А что газеты пишут… Знаем сами, как они делаются!..
Я не произнес больше ни слова. Все, что связывало меня с этими людьми, было рассечено, лопнуло, как не выдержавший напряжения канат. И уже не имело значения, что говорил, проборматывал скороговоркой Толмачев, заключая планерку, – в том роде, что нужно сделать купюры, а когда их сделают, мне покажут материал… Это уже ничего не значило. Поскольку теперь был «я» и были «они»…
Планерка закончилась. Я вернулся в свой отдел – узкую комнатку, тесно заставленную четырьмя столами. В распахнутую дверь Мироглов крикнул мне:
– Идем кофе пить!
Вся честная компания шумно направилась в бар. Кто-то поддержал его, позвал меня…
– Спасибо, – сказал я. – Что-то не хочется.
16В отделе толклись авторы, Рожицын с кем-то разговаривал по телефону…
Я взял со стола первый попавшийся лист бумаги, написал заявление. Написал, почему я ухожу из редакции, почему прошу освободить меня от членства в редколлегии. Написал об интернационалистических традициях, за долгие годы сложившихся в журнале, упомянул о «Памяти»… Видно, Рожицын понимал, о чем я пишу, и, когда я поднялся, рванулся было меня остановить:
– Юра, не делай этого!
Я вошел в кабинет к Толмачеву, положил заявление на стол. Вид у него был растерянный.
– Так я и знал… – пробормотал он. – Знал, что ты это сделаешь.
– Кажется, по КЗОТу после подачи заявления полагается отработать двухмесячный срок? – сказал я.
17В тот день по дороге домой – был декабрь, небо как серый войлок, мокреть под ногами – мне вспомнилось майское утро 1965 года, белая, вся в цвету, яблоня под нашими окнами, подрулившая к подъезду машина, из которой вышли – оба в белых, с короткими рукавами рубашках – Морис Симашко и Николай Ровенский, молодые, энергичные, слегка загадочные… Они поднялись к нам, на верхний этаж еще не обжитого, пахнущего краской, недавно заселенного дома.
– Поехали, одевайся… Зачем?.. Потом узнаешь.
Всю дорогу до редакции оба смеялись, болтали о том и о сем, подшучивали над моим недоумением… В кабинете редактора журнала, куда меня почти насильно втолкнули, навстречу мне поднялся из-за стола Иван Петрович Шухов, маленький, губастый, подслеповатый. Обнял, усадил, посопел, поправил очки с толстыми стеклами на широком, картошкой, носу.
– Вот какое дело, Юра, – сказал он, – мы тут подумали– подумали и решили предложить вам поработать у нас в редакции… Как вы на это смотрите?
«Поработать…» Что это значит?.. Я не верил своим ушам – неужели меня и вправду в журнал приглашают? Это имел в виду Иван Петрович – или я не так его понял?..
Но так оно и было – меня приглашали в журнал. Полгода назад я приехал в Алма-Ату из Караганды, где работал в молодежной газете, потом литконсультантом в отделении Союза писателей. У меня вышли две книги – одна в Петрозаводске, там я служил в армии, другая – роман «Кто, если не ты?..» – в Алма-Ате. О нем много писали в газетах, от читателей шли в издательство пачками письма… Но все равно – работать в журнале, который возглавлял Иван Петрович Шухов, где работали Ровенский, Симашко, Щеголихин… Где печатали Платонова, Паустовского, Мандельштама… Это было вряд ли осуществимым счастьем!
Я попросил месячную отсрочку – закончить роман «Лабиринт»… И спустя месяц приступил к работе – в отделе прозы. Просыпаясь по утрам и вспомнив о редакции, я встречал каждый новый день как праздник, незаслуженный подарок судьбы. Когда через год или два мы приняли на работу молодого журналиста из комсомольской газеты и в его жаргонистой речи замелькало словечко «контора» в применении к нашей редакции, оно звучало для меня святотатственно: журнал был содружеством, братством, соединявшим всех нас духовно, а никак не «конторой», «службой». Случалось всякое – и обиды, и ссоры, но они забывались, таяли, как дымок, уносимый ветром. Дело, которое для нас было священным – Двадцатый съезд и обновление литературы, всей нашей жизни, – перекрывало все остальное.
Домбровский, Казаков, Марк Поповский и его «1000 дней академика Вавилова»… Таким до того, как отстранен был – то ли Сусловым, то ли Кунаевым – Иван Петрович от редакторства, сложился и навсегда остался в сердце моем журнал. Да и – в моем ли только? С ним связаны были особой, трепетной связью Галина Васильевна Черноголовина – отважная наша «Черноголовка», как ласково называл ее Домбровский, и уже упомянутые мной Симашко и критик Ровенский, и покойный ныне Алексей Белянинов, и Павел Косенко, и Владилен Берденников, и Иван Щеголихин, и Ростислав Петров, и Валерий Антонов… «Лучшие годы нашей жизни» – вот чем для каждого был журнал, по крайней мере – для большинства из нас… Потом наступили годы безвременья, застоя – долгие и пустые, о которых почти нечего вспоминать… Но коллектив редакции в чем-то главном, казалось, сохранил, сберег себя… И вдруг…
18И вдруг… – подумалось мне. – И вдруг… И вдруг… А вдруг я все осложняю? Вдруг раздуваю из мухи слона? Воображение, взвинченные нервы – и легкие, для других, да и для тебя самого в прошлом незаметные внешние импульсы вдруг оказываются способны изменить настроение, перевернуть мир вверх тормашками, рассорить с людьми, которые не думали ни о чем плохом… А потом уже не остается ничего другого, как упорствовать в своей ошибке, своем никчемном озлоблении, яриться на всех вокруг, а наделе – на самого себя… Где, в чем гарантия того, что прав я, а они, вся редакция – неправы?..
Я ехал домой на автобусе, положив на колени дипломат, и смотрел на серое небо, серые дома, серую дорогу… И нечаянно, словно по какой-то инерции, под напором, идущим извне, представился мне какой-то такой же серый, незнакомый мне город, автобус, только слякоти поменьше на ухоженных тротуарах… Но тоже едет, положив – ну, не дипломат, а портфель к себе на колени – какой-то человек, и пасмурно, гадко у него на душе, поскольку поссорился он у себя в редакции, где старый и добрый его друг Фриц Мюллер или там Густав Кригер сказал ему, что как еврею ему не дано постичь подлинное величие Гете… Или, к примеру, что если бы не евреи, шпионившие в пользу Антанты, Германия наверняка бы выиграла Первую мировую войну… Что же, – сказал бы себе тот человек, с портфелем на коленях, – может быть, я напрасно кипятился?.. Да, мой отец не был шпионом, он был солдатом и погиб в сражении на Марне за свое немецкое отечество, но кто знает? – может, были в самом деле евреи-шпионы?.. Фриц и Густав – мои добрые друзья, мы вместе учились в гимназии, какое у меня право пятнать их честные имена гнусными подозрениями? Обобщать?.. Связывать их с лозунгами, которые как-то раз я видел из окна этого же автобуса, – их несли какие-то молодые люди, одетые в черные рубашки, прикидываясь бывалыми солдатами, и печатали шаг – очень четко и очень громко, и что-то такое пели – «Хорст…» или – «Ферст…» И, кажется, «Вессель…» – что-то в этом роде… Стоит ли придавать значение тому, что сказали – и, по– моему, сами почувствовали себя неловко – мои друзья Фриц Мюллер и Густав Кригер… И стоит ли обращать внимание на этих молодчиков – кстати, не в черных, а коричневых, я спутал – рубашках… Ведь у нас на дворе не время крестовых походов с их погромами и резней, а – слава богу, 192-такой-то год, и мы живем в демократической Германии, Версальский договор гарантирует нам спокойствие и порядок… Нам – то есть и нам, евреям…
Так, вполне возможно, – думал я, – рассуждал тот человек – и откуда ему было знать, что случится вскоре с его милой Германией, с его добрыми друзьями Фрицем и Густавом, с ним самим?..
19. «К русским студентам»«Россия, Отчизна наша, переживает судьбоносную пору. После долгих лет лжи, насилия и лицемерия она постепенно становится более открытым и честным государством. Благодаря этому мы наконец-то узнали о бедственном положении страны: наша экономика топчется на месте, спрут бюрократии душит все живое, русская нация вымирает, наука отстала, образование неэффективно, коррупция стала вездесущей. С ужасом мы узнали и о другом – о чудовищном истреблении нашего народа, который после революции потерял от рук опричников власти 40 миллионов человек, в четыре раза больше, чем за все войны с петровских времен, не считая последней.
Особенно пострадал русский народ и родственные ему украинский и белорусский народы. Наш триединый народ, отдав все для победы в самой кровопролитной войне, сегодня сделан самым обездоленным, униженным и нищим. Попав в Прибалтику, Закавказье или Среднюю Азию, любой русский сразу чувствует, как не уважает и презирает его коренной тамошний житель. Русский видит также, сколь зажиточнее и лучше живут они, и в удивлении спрашивает: как и когда все это произошло? Почему Россия, некогда богатая и жизнеспособная страна, ныне плетется не только в хвосте народов мира, но и в хвосте народов СССР? Ответ известен – окраины долгими десятилетиями пользовались льготами и денежными дотациями, которых сознательно лишали Россию и которые давались в основном за ее счет!
Все ли, однако, помнят, что издавна Отечество наше именовалось Россией? Многие ли из нас чувствуют гордость при одном звуке этого имени? Все ли из вас ощущают себя потомками русских, создавших великую державу и ее мировую культуру? Ведь сейчас достаточно произнести "я – русский", чтобы в ответ услышать нагло-циничный вопрос: вы шовинист? Слово же "Россия" у некоторых вообще вызывает приступ яростной злобы и ругани. Вот он – зримый итог насильственного интернационализма, стремящегося все народы слить в серую и безликую массу. Более полувека нас заставляли и заставляют забыть, кто мы и кто наши великие предки!
…Опустошить, увести вас в сторону от решения национальных проблем хочет сегодня "малый народ", точнее, его весьма обширная националистическая элита, которая вот уже целое столетие силится подмять под себя славянские народы нашей Родины и прежде всего великий русский народ. Крайние шовинисты по существу, ура-интернационалисты на словах – еврейские националисты составляли большинство в первом советском правительстве (в нем на 22 человека было лишь двое русских)[4] и в аппарате насилия (ВЧК, ОГПУ, НКВД), на страшном счету которого десятки миллионов человеческих жертв. Они были большинством среди крупных функционеров власти, которые, не дрогнув, приказывали взрывать наши храмы, расстреливать и гноить в лагерях как "классового врага" цвет нации. Ведь это был не их, а чужой и ненавидимый ими русский народ!
Сегодня националистическая еврейская элита оккупировала русскую культуру, науку и прессу. Люди еврейской национальности, которая насчитывает только 0,69 % в общем составе населения (без учета лиц, которые маскируются русской фамилией и национальностью), заняли до 30 % ведущих должностей.
Из этого народа – 45 % всех докторов и кандидатов наук, но рабочих из него – лишь горстка. Высшее образование имеет 70 % евреев, втрое больше, чем русские. В стране, причем достаточно давно, образовалась очень влиятельная, спаянная мафия, которой чуждо или ненавистно все русское, все близкое и дорогое нам.
Активно участвуя в изничтожении русского народа, сегодня еврейские шовинисты преданно служат системе и бюрократии. Членов партии среди евреев пропорционально вдвое больше, чем среди русских! Ныне они сумели стать главными "прорабами перестройки", которую вполне сознательно направляют в тупик, чтобы вызвать народное недовольство и ради своей выгоды разжечь новую братоубийственную смуту. Для этого они ретиво действуют и на другом фланге – среди левых неформальных объединений, "Демократического союза", "Народного фронта" и разных клубов. Ловко спекулируя на законных требованиях людей, еврейские националисты опять лезут в революционные вожди с целью растлить и расшатать общество. Но нам не нужна новая братоубийственная смута!
Нам нужна Россия – великая, свободная, нравственная держава!
…Сегодня "Память" бьет в набат – МЕДЛИТЬ БОЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ! Отечество и народ – в великой беде и опасности! Ему грозят великий кризис и крах! Пришло время действовать сообща, смело, по-суворовски, вместе с ВАМИ – русскими студентами и всеми, кто понимает и сочувствует нашим бедам. Не дадим врагам лишить Россию ее величия, самобытности и достойного места в мире! Родина у нас – одна и мы несем ответственность за ее судьбу.
Разъясняйте для спасения Родины цели "Памяти", обличайте, устно и письменно, ложь и клевету на нее, давайте отпор хулителям, создавайте группы "Памяти" в своих вузах! Бойкотируйте преподавателей-сионистов, выдвигайте и поддерживайте русских преподавателей и ученых, стоящих на патриотических позициях! ЗНАЙТЕ – НИКТО кроме "Памяти" не выступает в наши дни за подлинное возрождение и спасение русского народа и братских славянских народов. Если вы любите Родину и верно понимаете ее трагедию – ваше место в рядах национально-патриотического фронта "Память"!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ РОССИЯ! ДА СГИНУТ ЕЕ ВРАГИ!
Ленинградский совет НПФ "Память"»
Эта листовка – одна из многих – распространялась между ленинградскими студентами, ее принес мне сосед, чей сын учится в Ленинграде. Слово «листовка» не случайно произведено от слова «лист»: нужно иметь семя, нужно иметь плодородную почву, нужно позаботиться о том, чтобы почву эту взрыхлить, посадить в нее семя, засыпать сверху землей, поливать, ухаживать, растить, дожидаться терпеливо, упорно, пока деревце подрастет, раскинет ветки, покроется почками, потом густой листвой – только тогда ветер сорвет и разнесет по городу, по улицам и подворотням листья-листовки, подобные этой… Кто-то подготавливал почву, закладывал семена, растил-взращивал поначалу робкий, слабый стебелек… Кто? Зачем?..
20Собственно, я давно собирался уйти из журнала. Нездоровье, постоянная редакционная нервотрепка, чтение и подготовка к печати рукописей, не оставляющие ни сил, ни времени для собственной работы… Собирался уйти при прежнем нашем редакторе, потом появился Толмачев, развернулась перестройка – возникли условия для живого, настоящего дела… Но последнее время я начал все острее чувствовать расхождение с Толмачевым, с теми, кого принимал он в редакцию. И все же никак не думал, что уходить придется в подобной ситуации. Жена, если я заговаривал об уходе, возражала: разве ты сможешь без редакции? Без общения с людьми? В одиночестве?.. Мне тяжело было признаться ей, что я подал заявление. И, чтобы не тянуть, я сделал это, едва переступив порог.
Даже в полутемной прихожей я, казалось, увидел, как она побледнела. Но тут же услышал:
– Ты поступил правильно. Другого выхода у тебя не было.
Под утро мы оба встали, подошли к постели маленького нашего внучонка – Сашеньки, проверить – не раскрылся ли, не мокрый ли… Обоим не спалось в ту ночь.
– Я все лежу, думаю, – сказала жена, – как же так? Что произошло? Ведь тебя всегда так уважали…
Что я мог ей ответить?
21О, черная гора,Затмившая весь свет!Пора – пора – пора —Творцу вернуть билет.Отказываюсь – быть.В Бедламе нелюдейОтказываюсь – жить.С волками площадейОтказываюсь быть…В те дни мне часто вспоминались – да и сейчас вспоминаются – эти цветаевские строки…
22Больнее всего в этой истории ударили меня слова Антонова. Даже не слова – нацеленный в упор взгляд, в котором, как осколок стекла, так и сверкала ненависть…
Вот где заключался мучительный, до сих пор саднящий мне душу вопрос: что же произошло?..
Ведь Валерий Антонов… Как бы это сказать… Ум, талант, красноречие – да, все это я всегда ценил в нем, однако – не только это… И, может быть, вовсе не это было в нем для меня главным. А редкостный дар – уловить малейшие оттенки настроения другого человека, выслушать его, дослушать до конца – и разделить гнев, смятение, тоску, переполнявшие всех нас многие годы. Разделить – и облегчить сердце – когда словом, когда обоюдным молчанием. Порой ведь важнее, значительней любых слов такое молчание с переплетающимся в воздухе дымком двух сигарет. А иногда, помолчав, с какой– то виноватой улыбкой в глазах – разноцветных, один – голубой – посветлее, другой потемнее – он говорил, тронув ладонью лохматую рыже-русую шевелюру на лобастой голове: «Хочешь, тебе почитаю?.. Сам не пойму, что у меня на этот раз получилось…» Он читал стихи, я слушал. Мы не были друзьями в расхожем смысле слова и не так-то много времени проводили вместе, но соприкосновение душ – что может быть выше в мужской дружбе?..
Мало того. Много лет назад, в ответ на антисемитский выпад в адрес журнала, исходивший от сановного литературного чиновника, мы с Валерием не смолчали, а вдвоем потребовали разбора этого дела на русской секции… Чем вызвали немалый переполох с последующим вызовом в идеологический отдел ЦК КП Казахстана и грозной накачкой – за «потакание вражеской пропаганде», твердящей о существовании антисемитизма в СССР… Помню, как потом, по дороге из ЦК в редакцию, мы завернули в скверик, чтобы прийти в себя, и, сидя на лавочке, то хохотали, то матерились, но было так горько, так тоскливо обоим – дальше некуда…
И в то же примерно время, в начале семидесятых, покончил с собой автор нашего журнала, филолог, преподаватель пединститута Ефим Иосифович Ландау. Ему было около пятидесяти, жил он одиноко, погруженный в докторскую диссертацию, посвященную творчеству Эренбурга, и – едва ли не единственный в Союзе написал и успел опубликовать рецензию на «Теркина на том свете» Александра Твардовского, – сатиру, напечатанную по высочайшему капризу, но вскоре же фактически запрещенную… Твардовский прислал ему растроганное письмо. А через недолгое время Ландау объявили не то еврейским националистом, не то прямым сионистом, к тому же поползли, зазмеились неясного происхождения слухи о золоте, якобы посланном Ландау в Израиль (опять – золото!.. Золотые слитки!..), и о каких-то чуть ли не агентурных связях его с иностранной разведкой. Трижды являлись к нему из органов, переворошили всю квартиру, всю огромную, уникальную библиотеку, на которую Ландау тратил две трети зарплаты, что-то искали, вчитывались в дневник, допрашивали, писали протокол за протоколом – в заключение, когда однажды рано утром снова позвонили или постучали к нему в дверь, он выскочил на балкон и прыгнул вниз с четвертого этажа…
Он бывал у нас дома и всякий раз приносил Марише, нашей дочке, только начавшей ходить в школу, по шоколадке… Два опера явились ко мне на работу в день его гибели, повезли в машине, с решеткой на крохотном оконце, к нему домой – я еще ни о чем не догадывался, не знал, куда и зачем меня везут, воображение рисовало мне разные варианты, в соответствии с временем, наступившим после суда над Синявским и Даниэлем, одного лишь не мог я предположить – того, о чем услышал, когда передо мной распахнули дверь квартиры Ландау и, увидев за нею незнакомых людей, я вдруг почуял в воздухе отчетливый запах смерти…
Так вот, тогда, когда за демонстрации подобного рода в лучшем случае можно было лишиться работы, оказаться исключенным из плана в издательстве и т. п., Валерий Антонов, как и еще несколько человек, из тех, кто был куда ближе, чем он, знаком с Ландау, явился на похороны, и мы все вместе поехали на кладбище, вместе – впятером или вшестером – возвращались затемно домой, возле торговавшего водкой киоска чокались полными до краев граненными стаканами, пили, поминая Ефима Иосифовича – и пожимали друг другу руки, кого-то проклинали, кому-то грозились отомстить… Господи, да скажи кто-нибудь, придай кто-нибудь тогда особенное значение тому, что тот из нас – еврей, а этот – русский, – да его бы попросту не поняли – как если бы он заговорил на каком-нибудь тарабарском языке! А поняв – испепелили презрением!..



