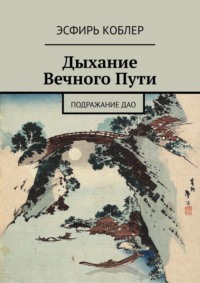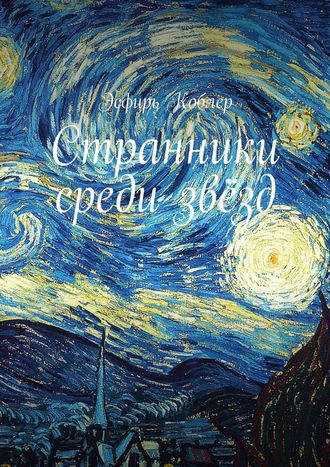
Полная версия
Странники среди звёзд
А вот седьмой пункт очень меня удивил, учитывая материальной положение семьи. Пожилые родители умерли довольно рано. Примерно в начале 90-х годов Х1Х века. Младшей, Розе было тогда толь лет 10. Старшей, Рахили, моей бабке, значит 24. Но, возможно, они были моложе, когда остались одни. И вот Рахиль берет на себя заботу обо всех младших братьях и сестрах.
Она выучилась сама и подняла всю семью.
Отсюда и жесткость ее характера, и непримиримость ко всему, что не нравилось ей.
Вот как выглядит пункт 7, из книги, так и не написанной моим отцом.
7. Учение Рахиль на курсах по акушерству, фельдшерству и массажу. Выпуск 1901 года. Швейцария, доктор Райх. (Ну как могла моя бабка попасть на эти курсы?! Ведь они были бедны, образование в такой семье давали только мальчикам). А уже потом:
8. Приезд семьи в Одессу в 1903 году. Погром в Кишиневе.
9. 1905 год и погром.
10. Яша и работа на угольном портовом складе
На этом я прерву план так и ненаписанной отцом книги. Нет, потом я его продолжу, но сейчас мне хочется немного поразмышлять о том, как мы «ленивы и нелюбопытны». Пока были живы носители этой старой семейной культуры и родового знания мы ничего не спрашивали у них. В своем молодом эгоизме мы были уверены, что жизнь, истинная, великолепная жизнь, именно нам дана, а все предыдущие поколения только почва для нашего появления, для нашего дыхания. Например, моя бабка со стороны отца, бабка Рахиль, обладала незаурядным характером, силой воли и умом. Вся беда заключалась в том, что она ненавидела весь окружающий ее мир. Единственным светом, любовью, счастьем был ее сын, мой отец. Свою сестру, нашу общую тетю – тетю Розу, она только терпела за любовь к своему сыну, всех остальных, включая меня, она ненавидела. Я появилась в доме, (о нем, о доме, отдельный рассказ), – я появилась в доме, когда мне исполнилось четыре года, и сразу столкнулась с безграничной любовью отца, равнодушием тетки Розы и ненавистью бабки Рахиль. Раньше я просто думала, что она ревнует сына к моей матери, потому что отец ее, мою маму, очень любил, и только с возрастом поняла, что это была еще и ненависть к стране, к миру, который ее окружал и к тому строю, в котором она прожила вторую половину своей жизни.
Я помню как тогда, а это был 1953 год, часто по радио звучали Варшавянка или Интернационал, и я, как всякий ребенок, пыталась подпевать песне, которую слышала. Рахиль начинала трястись и кричать, чтобы я замолчала. Сквозь слезы я отвечала ей, что это песни революции, что вся страна их поет. Тогда я услышала ответ, который запомнила на всю жизнь, что мы, евреи, не имеем права участвовать в жизни страны, потому что, – чтобы здесь не происходило, – во всем будут виноваты евреи. Прошло много лет, прежде чем я осознала всю драматичную истинность и печаль этих русско-еврейских отношений. А тогда бабка рассказала мне о том, что во время революции 1905 года она жила в Одессе. На одном конце города были баррикады, и рабочие противостояли полиции и армии. Она, Рахиль, конечно, была там, и как медсестра помогала раненым рабочим, а ее братья сражались на баррикадах. Это спасло им жизнь. Когда они вернулись в еврейский квартал, то увидели груды мертвых тел, разграбленные и сожженные дома, и те же рабочие, которых она только что перевязывала, с упоением тащили все, что можно было разграбить.
Тогда Ребе сурово осудил еврейскую молодежь и сказал, что евреи должны заниматься наукой и торговлей, но не политикой, иначе все евреи будут уничтожены. Если учесть, что основная масса еврейства тогда жила в Российской империи, то Ребе был абсолютно прав. Именно после революционных погромов 1905 года несколько миллионов евреев уехали из России в Америку и потом составили основу благополучия этой страны.
А теперь продолжим план той самой ненаписанной отцом книги.
11. Гриша и конфеты.
12. Моня и босяки
13. Коля и Моня
14. Женитьба братьев и отъезд Мони в Австро-Венгрию. Замужество Рахиль 1911 год. Николаев. А я думала 1912 год Бердичев!
15. Революция 1917 года. Февраль – Октябрь.
16. Австро-Венгерская оккупация Одессы (4-ая Станция).
17. Гражданская война (4-ая Станция)
18. Голод 1920—21 года. Жизнь у дяди. Южная.
Я не знаю, что за всем этим стоит, я не знаю, что хотел написать отец. Я только знаю, что где-то во времени и пространстве исчез мой дед Яков Кобылер, что в Австро-Венгрии должны были жить некие Моргулисы. Что с ними стало после 30-х годов; что в Америке живут некие Маргулисы, (перемена буквы – игра времени и грамматики), потомки знаменитого одесского адвоката, одного из многочисленных двоюродных братьев Моргулисов. Двое его детей – брат и сестра – одновременно повесились, как шепотом передавали в семье из-за случившегося инцеста. Остальную часть своей семье он после 1905 года увез в Америку.
Никогда не прощу себе, что уничтожила несколько страниц из ненаписанной отцом книги. Остался только листок, напечатанный на машинке. О, машинка это была его гордость. Новая «Оптима», 1956 года выпуска, единственное, что он завещал мне. Как будто чувствовал, что я попытаюсь что-то написать. Но ее продали, чтобы поставить памятник отцу, на кладбище в Мытищах, где, надеюсь, похоронят и меня.
Вот эта страница, написанная отцом.
«Наверное, всякая работа это каторга. Предвижу, что лицемеры, охотники поработать, ученые и прочие «знатные от работы» люди, накинутся на меня и с пеной у рта, будут ругать меня, доказывая, что только, мол, труд в поте лица дает удовлетворение, являясь основой жизни, прогресса и многих иных вещей, против которых трудно спорить.
Человек изобрел атомную и водородную бомбу, привел в движение космические силы природы, и в ужасе дрожит перед своими открытиями, которых он выпустил из бутылки, как в старину выпустил древнего духа зла.
Это было лет тридцать пять тому назад. В одно прекрасное летнее утро 1924 года. Еще не взошло солнце. Десятилетний мальчик, загорелый с выцветшими рыжевато-белыми от морской соли волосами, сбегал с большого обрыва к морскому берегу.
Удивительны эти высокие глиняные обрывы, возвышающиеся над морем в пригороде Одессы. Бескрайняя степь, полная запахов травы, соломы, цветов и созревающих под солнцем хлебов, бахчей, огородов, подсолнуха, вдруг обрывается на всем своем великом протяжении и подмытая морем, двумя крутыми глиняными уступами ниспадает в голубое море, несущее прохладу и чудесные, неведомые степи морские запахи соленой воды, водорослей, гниющих ракушек или как их тут называют – мидий».
Вот и все, что успел написать отец. Я понимаю, что он хотел сказать. Он хотел противопоставить красоту жизни бессмысленному труду, который приводит как к разрушению личности человека, так и к разрушению мира через блага цивилизации. Он поднимал вопрос, который стоит всегда очень остро. А что такое цивилизация, к чему она привела? Кроме того, это пишет человек, который всю жизнь трудился как каторжный, чтобы прокормить семью, а основное, творческое свое дело так и не довел до конца.
Как писал Ницше: «Напрасен был всякий труд, в отраву обратилось вино наше, дурной глаз опалил наши поля и сердца».
Неужели все эти люди с их страстями, желаниями, недюжинным умом ушли, не оставив следа? И неужели же нет будущей жизни, там, где мы все встретимся и все поймем? Ведь только бессмертие души оправдывает все наше существование, все надежды, все чаяния.
«Высшая идея на земле лишь одна, – писал Достоевский, – и именно идея о бессмертии души человеческой, ибо все остальные „высшие“ идеи жизни, которыми может быть жив человек, лишь из одной ее вытекают». Вот почему я пытаюсь найти ту нишу, которую занимает мой род в бесконечной цепи генетической культуры человечества.
Одесса, о которой писал мой отец, – это Одесса Бабеля, то же время, те же герои. Наверное, дети из хорошей семьи жили несколько в другой обстановке, чем Беня Крик, но это тот же город, его улицы и быт местечка. И погромы те же самые. Бабель описывает погром в Николаеве, но какая разница…
«Случай этот был еврейский погром, разразившийся в пятом году в Николаеве и в других городах еврейской черты оседлости. Толпа наемных убийц разграбила лавку моего отца и убила деда моего Шойла. Все это случилось без меня, я покупал в то утро голубей у охотника Ивана Никодимыча. Пять лет из прожитых мною десяти я всею силою души мечтал о голубях, и вот когда я купил их, калека Макаренко разбил голубей на моем виске».
А в другом рассказе Бабель опишет мечту русского мужика.
Жид всякому виноват, – сказал он, – и нашему и вашему. Их после войны самое малое количество останется. Сколько в свете жидов считается?
Десяток миллионов, – ответил я и стал взнуздывать коня.
Их двести тысяч останется, – вскричал мужик
Вот и Бунин в книге «Окаянные дни» вспоминает, как старый еврей сокрушается, что все режут друг друга, а потом будут говорить, что во всем виноваты евреи. «Я, – пишет Бунин, – видел и красных и белых. Евреев среди них единицы, но мы точно будем кричать, что во всем виноваты евреи, надо же оправдаться».
Мужик оказался прав. Сейчас в России не больше двухсот тысяч евреев. Но, по мнению, 140-миллионного большинства, – они, евреи, во всем виноваты.
Вот история другой семьи, и произошла она через четверть века в 1941 году в Киеве. Семья моей подруги жила в самом центре Киева. Дед ее еще до революции был известным портным. И это портновское благополучие продолжалось и в 30-е годы. Платье ведь всегда шьют. Бабушка была дивной кулинаркой. Когда она пекла пироги, весь двор замирал. Дети знали, что вот-вот откроется дверь, и им вынесут пирожки, каждому достанется и не один… Немцы заняли Киев в 1941 году так быстро, что никто не успел уехать, кроме партийных работников. Молодой комсомольский вожак, живший в этом же доме, немедленно переоделся в форму полицая, и теперь вместе с немцами обходил все квартиры, указывая, где живут евреи, он также спокойно указал и на их дверь, хотя еще несколько дней назад получал теплые пирожки из добрых рук. В Бабий Яр повели деда, бабку, мать моей подруги и ее сестру. Девочкам было 18 и 16 лет. Им повезло, их колонну конвоировали немцы, а не украинские полицаи. Женщины сняли с себя все украшения, достали заветные запасы, и отдала немцам. Девочкам дали возможность убежать. Всю войну они батрачили за еду на хуторе… После войны девочки взяли русские имена, и в графе национальность они с сестрой написали – русские. Младшая вышла замуж и уехала в Москву, а вот ее сестра каждый день видела во дворе служебный автомобиль ответственного партийного работника, того самого полицая, который отвел их родителей в Бабий Яр. Больше всего на свете они боялись, что им кто-то напомнит, что они евреи.
Над Бабьим Яром памятников нет…
Часть этой семьи, дети той сестры, что осталась в Киеве, уехали в Америку, сын московской сестры – в Германию, а здесь в России остались три несчастные женщины – старшая, пережившая Бабий Яр. Ее дочь и внучка… Больше потомков нет, евреи не выжили в России.
Так и наша семья. Все разбрелись по свету, здесь остались те, кто накрепко, смертью и кровью, смешением племен связаны с землею, которая их отвергает.
Мой отец во времена борьбы с космополитизмом все пытался найти работу, достойную его ума и знаний, все писал автобиографии. Сейчас рассылают резюме, где главное все-таки показать свои навыки и знания, а тогда главным было доказать идеологическую правильность, что, впрочем, не всегда подтверждалось биографией, а главное – умение писать доносы, вот этого мой отец не умел. Один из моих знакомых написал в своей книге о тех временах: «Формула большевизма как неограниченной власти – жизнь ради уничтожения жизни во всем ее многообразии». (А. Викторов).
Вот в такие времена отец писал о себе:
Кобылер Михаил Яковлевич.
Я родился в 1913 году в г. Одессе. Мать моя до революции работала массажисткой, а после революции швеей и медсестрой. Отец развелся с матерью до моего рождения. В 1923 году я поступил в школу, которую окончил в 1928 году. В 1929 году семья переехала в Москву, я поступил на работу на бумажную фабрику в начале в качестве помощника мастера, а потом мастером на копировальных машинах до 1932 г.
В 1933 г. я поступил в Историко-архивный институт ГАУ МВД СССР, который окончил в 1937 г. и был оставлен в аспирантуре, которую окончил в 1941 г. В 1936 г. я начал учительскую работу в вечерних школах г. Москвы. С 1941 по 1945 год я работал начальником отделения госархива НКВД по Ошской области и одновременно преподавал историю в г. Ош. С 1946 по 1949 год я работал учителем истории в школе рабочей молодежи и зав. учебной частью. В 1949 году я тяжело заболел и был вынужден уехать в село Кельменцы УССР, где работал учителем истории и завучем школы рабочей молодежи до 1953 года. В это время тяжело заболела моя одинокая мать, и я был вынужден вернуться в Москву. Я женат и имею детей».
Здесь все полуправда. Отец пытается найти работу. Он хотел преподавать, он любил и умел это делать, но ему не позволили. Через двадцать лет после его смерти ко мне подошла незнакомая женщина и спросила: «А вы знаете, каким умницей был ваш отец?» Но в автобиографии он пишет не о том, что может, а что должно писать.
Он не пишет о том, почему уехал в село Кельменцы – тогда это была Западная Украина, – а уехал, потому что в 1947 году началась борьба с космополитизмом. Моя мать еврейка, врач, не могла оставаться в Москве, и перед моим рождением отец отправил ее в г. Черновицы, где жила мать моей матери, бабушка Ида, а после моего рождения, когда мама получила назначение в поселок Кельменцы, между Украиной и Молдавией, приехал к ней, преподавал историю и был завучем вечерней школы. Существовали и личные причины отъезда, в письмах родителей говориться только о них. Мать вышла на работу, когда мне было две недели, отец потом часто рассказывал, как он шел со мной через весь поселок в местную больницу, где работала мать, чтобы она покормила меня, при этом он гордо говорил: «Я вскормил тебя грудью». Когда я подросла, он сажал меня к себе на шею и так шествовал со мной, – где бы мы не жили, – в Кельменцах или в Тайнинке. Он был высокий – метр девяносто – полный и казался огромным, поэтому, фигура усаживания меня на шею называлась «на слона». С высоты «слона» я обозревала весь мир, что, несомненно, было очень интересно. Вообще все в доме имели прозвища. Мама называлась обезьянкой, я обезьяной, облагороженной человеком, отец, конечно слоном, тетка Роза тигрицей, и только Рахиль прозвищ не имела.
Как я понимаю теперь, в глуши Молдавии – Кельменцы теперь, если я не ошибаюсь, относятся к Молдавии – в глуши Молдавии родители недолго были счастливы. Отцу пришлось уехать, потому что тяжело заболела его мать, и тетка, никого не спросив, продала часть дома в Тайнинке. Тем самым она практически сократила жизнь всем обитателям дома и, в первую очередь, отцу. О доме я еще расскажу, а пока отец уезжает один, а мы не можем ехать с ним все по тем же политическим и семейным причинам. Помню только короткие наезды отца летом, видимо, в отпуск и какие-то эпизоды. Например, купания, что в деревенских условиях непросто. Но отец любил наливать горячую ванну, потом, наблюдая, как мать моет меня, пищащую от горячей воды, повторяет: «Запарим овцу, запарим овцу!» Или эпизод, запечатленный во мне как фотография. Отец лежит на раскладушке под распустившимся сливовым деревом, – в Кельменцах был у нас сливовый сад с клейкой смолой деревьев и зарослями травы под ними, – отец лежит на раскладушке такой большой, он даже не умещается на ней, а я подкрадываюсь со стороны головы с поленом в руках и хочу ударить его по голове, мне интересно: он такой огромный – почувствует что-нибудь или нет. Когда отец вскакивает и уличает меня, я совершенно спокойно объясняю ему свою задачу. Или такое воспоминание. Под окном возле крыльца цветет огромный куст роз, весь усыпанный нежными цветами с дивным ароматом. Мать только что собрала с него лепестки; она сидит на крыльце и растирает их для варенья, варенья из лепестков роз, а над домом и за домом, и за моей спиной над садом раскинулись огромная многоцветная радуга. Так прекрасно, что я вновь хочу подняться к небу, как ночью со звездами, или ясным утром в чистую синеву. Первое познание красок, звуков, запахов.
В марте 1953 года от отца из Москвы пришла телеграмма. Я в это время собирала клейкую смолу со слив и слушала, что кукует кукушка – весна в Молдавии ранняя. Мать вышла на крыльцо и сказала: «Отец пишет: и прочитала. – «Сталин умер. Возвращайся в Москву». На всю жизнь я запомнила текст этой телеграммы. Лично меня она обрадовала. Во-первых, едем к отцу, во-вторых, в Москву, а значит, я больше не увижу местных детишек, они не хотели со мной играть, кидали в меня песком и кричали: – «Убирайся, Москалька, жидивка».
Москва поразила меня встречей с родней, которую я не знала раньше, и непривычным для меня холодом. В июне 1953 года в Москве выпал снег. Холодное лето 53 года.
Я не могу сказать, что мать и тетка отца, то есть моя бабка Рахиль и её сестра, встретили меня дружелюбно. Я уже писала, что Рахиль ненавидела всех, – в том числе и меня, свою внучку, – кроме своего сына, которого она обожала, а после инсульта и потери памяти просто боготворила. Однажды, когда она уже стала ходить и речь частично вернулась к ней, кто-то из соседей подошел к ней, спросил о самочувствии и как поживает ее сын. Тогда она встала, руки в боки, и закричала: «Вы не имеете права даже имя его произносить». Легенду об этом случае мне рассказывали все соседи. Тетка Роза тоже не любила меня, она любила мою старшую сестру, которую я только теперь узнала. Наташа, дочь моего отца от первого брака.
Вот Наташа, будучи на 10 лет старше, полюбила меня всей душой, всем своим огромным темпераментом. Возилась со мной, воспитывала меня, и для меня не было большего счастья, чем приезды Наташи. Я вылетала на крыльцо и бросалась ей на шею. Наташа была то, что называется умница и красавица. Высокая, стройная, с пышными черными волосами и мраморным лицом, она поражала не только внешностью, но и пылкостью натуры и незаурядным умом. Старомодные и странные понятия семьи во многом искалечили ее жизнь.
В детстве мне было хорошо в Тайнинке, в старом и странном доме. Любовь отца и Наташи, живой и странный дом компенсировали мне все. Когда шёл дождь, отец садился на крыльце, усаживал меня на колени и вместе слушали шум дождя.
«Как семейно шуршанье дождя»!
Иосиф Бродский «Дождь в августе».
Мать я почти не видела в детстве. Так получилось, что именно ее заработок стал основным в семье. Отец уже был очень болен, а старухи все наши получали мизерную пенсию.
О чем это я пишу?
«И скальд опять чужую песню сложит, и как свою ее произнесет» (Осип Мандельштам).
Вообще все деньги, но и не только деньги, а и жизни нашей семьи съел дом, Старый Дом в поселке с названием – Тайнинка. Теперь это почти Москва, но до сих пор там остались реликтовые сосны, течет родниковая вода, а в детстве кажется, что там рай земной. На самом деле – кусок земли, зажатый между Москвой и индустриальными Мытищами. Когда строили и выравнивали в начале 30-х годов Кремлевский комплекс, то снесли домик, купленный моей бабкой по приезде в Москву, а им дали место на болоте. Шесть соток бывшего озера. В детстве моем помню старика-охотника, жившего в доме напротив. Высокий, сухопарый, с длинными усами он ходил всегда с двумя рыжими, как и он, охотничьими собаками, старик этот не раз говорил мне, какое глубокое и красивое озеро было на месте нашего дома, и как он там уток стрелял. Но мои получили уже кусок болота в 1934 году. Засыпали его землей, построили сарай, в котором прожили целый год (сейчас в нем даже дрова сырые), а они прожили целый год, к дороге добирались на лодке, но строили свой дом, дом, который их съел. Не зря говорят, что на болоте не строят.
За то время, что строили дом, отец написал диссертацию о русских архивах эпохи Ивана Грозного, которая хранится у меня. В 1939 родилась Наташа, а 1940 году отца оперировали – оказалась доброкачественная опухоль мозга. Его прооперировали настолько удачно, что к нему вернулось зрение и работоспособность, но началась война, эвакуация в город Ош с архивами НКВД, и совсем другая жизнь.
Во время войны дом заняли чужие люди. За воротами располагался заградотряд СМЕРШа, стрелявший по своим, если они отступали, и это чудо, что дом выстоял и остался жив. После войны отец приложил все силы, чтобы убрать чужих людей, наверняка ему помогло то, что он в эвакуации заведовал архивами НКВД.
Вот что пишет об этом доме моя дочь Аня. «Это дом страшного одиночества. Он пропитан одиночеством: дедушки Миши, бабушки, мамы – всех, всех, кто в нем жил. Все они были одиноки. И в тоже время этот дом пропитан духовной работой этих людей. Поэтому в нем так хорошо и… одиноко. „Что-то серое жило в углу… сквозь себя процедив тишину и укутав квартиру в молчанье“ – это одиночество. Но, к счастью, дом помнит и несколько лет, когда тут жило пять человек, и вместе мы не были одинокими. Нам было очень хорошо. Тогда мне было лет пять…»
А когда ей исполнилось семь лет, я уехала в московскую квартиру, разошлась с мужем, моя мать осталась одна после отъезда племянницы, дочери брата… Я помню печальную картину. Мать сидит у горящей печки, смотрит на огонь, а рядом очень печальный, тоже чувствующий одиночество, черный кот, и никакие наши частые приезды не могли изменить это одиночество. Как просить теперь прощение у них, как молить Бога за них? Только одна надежда, что для них рай существует…
«Как много их упало в эту бездну»… Марина Цветаева.
«…в этой части вселенной, – пишет Павич, – время научилось останавливаться. Может быть, как раз здесь мы имеем дело с каким-то прирученным временем. Жизнь возможна только в таком времени, которое не мгновенье остановилось, и невозможна тогда, когда оно течет неприрученным». Если развить эту знаменитую мысль, то можно сказать, что смерть – это продолжение свободного времени. Тогда мы вновь должны признать, что свободное, неприрученное, вольное время есть только у Бога, может быть, перейдя черту небытия, мы идем по дороге абсолютного времени к Нему?
Мои родители прожили вместе очень недолго – с 1943 года, когда они познакомились в эвакуации в Киргизском городе Ош, и до смерти отца в 1958 году. Но и большую часть этого недолгого времени они провели в разлуке, может быть, поэтому их любовь, их страсть только возрастала. После окончания войны отец вместе с архивом НКВД вернулся в Москву. Так он потерял возможность преподавания в институте и надолго расстался с моей матерью, женщиной, которую он безмерно любил. Он отказался от места зав. кафедрой истории СССР в Ростове Великом, потому что в Москве его ждал Дом, который надо было спасти, обустроить и вызвать туда (а тогда в Москву можно было попасть только по вызову) любимую женщину, и начать новую жизнь после развода с первой женой, конфликты с которой были постоянными и непереносимыми.
Вот письмо моей матери, написанное отцу в декабре 1945 года, сразу после их разлуки:
Добрый вечер, мой единственный!
Я говорила, что напишу тебе, когда получу твою телеграмму или открытку, но сегодня почты нет, а поболтать с тобой хочется. Мне только что было очень одиноко, и снова я почитала немного твое письмо. Я прочла лишь последние три страницы, наполненные нежной страстью, а первые страницы, где дело касается моих действий, я читать не захотела. Слишком больно.
Сейчас ночь. Все кругом спят, лишь я сижу со своей тоской в сердце. Ночи сейчас такие чудесные – теплые, тихие, лунные.
Рассказать по порядку, что я делала в эти дни
Позавчера вечером, после того как ты уехал, я устроила себе баню. Обмылась вся, вступая в новый этап моей жизни – этап великого целомудрия… Днем была у наших знакомых Х., возвращалась домой часов в 8 вечера. Пустынные улицы были залиты лунным светом и напоминали о сладости быть рядом с тобой в такую ночь.
Сегодня у нас начала работать в качестве гинеколога Б. Она мне кажется очень славной. Мы с ней просидели после работы часов до семи и, захлебываясь от восторга, говорили о своих возлюбленных: она – о муже, я – о тебе. Кто меня сейчас так понимает, как она?
Вот тебе отчет за два дня. Я пишу тебе все очень подробно. Я требую того же от тебя. Каждое действие, каждая встреча должны быть точно зафиксированы и сообщены. И – никакой лжи. Договорились? И, пожалуйста, напиши подробно, любишь ли ты меня еще так нежно, как любил в час расставания – на карасуйской дороге. Я знаю, твой независимый нрав возмутится такими требованиями. Я, конечно, шучу. Пиши, мой дорогой, о чем продиктует твое сердце. Врачи знают лишь, что оно дистрофично, а я знаю, что оно горячее и нежное и единственное, мною любимое.
Будь здоров, Мишуля. Целуя тебя, мой любимый, ох, как сильно целую… Твоя Рита.
Пиши чаще. Твои письма будут единственной моей жизнью, помни это.
Странная судьба. Маленькая, некрасивая женщина с невероятным обаянием и влюбленный в нее красавец, никогда в жизни, до конца своих дней, не взглянувший на другую женщину.