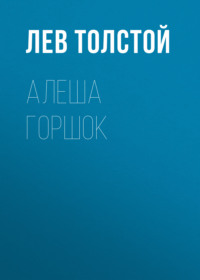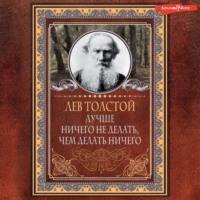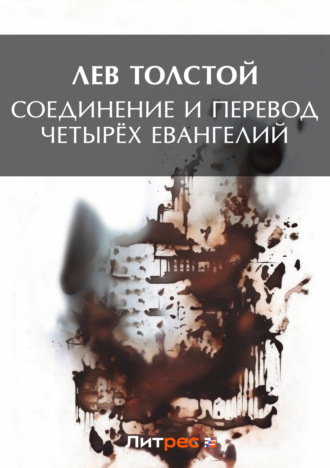 полная версия
полная версияПолная версия
Соединение и перевод четырех Евангелий
Одна сторона учения в том, чтобы отвергнуться плотской жизни, потому что истинная жизнь есть жизнь в воле Божией. Жизнь состоит в том, чтобы слиться с Богом. А тот, кто слил свою жизнь с жизнью Бога, для того нет ни прошедшего, ни будущего. А другая сторона та, что всякое представление о будущем показывает то, что человек не понял того, что значит истинная жизнь.
(Мф. XXII, 34)
И фарисеи, услыхав, что он заставил замолчать саддукеев, соединились.
Прежде искушали его одни фарисеи потом, одни саддукеи, теперь же следующий вопрос они делают ему вместе.
Целый ряд соблазнов представлялся Иисусу:
1) Ученики хотели отметить тем, которые не приняли Иисуса. Он сказал им: вы не понимаете смысла учения.
2) Петр умолял его обдумать опасность шествия в Иерусалим. На это Иисус ответил, что рассуждать об опасности есть соблазн, что волос с головы не упадет без воли Божией, а руководиться человек может только светом внутренним, а не рассуждением; рассуждение есть тьма.
Это ответ первый, и он относится ко всем другим соблазнам, включая их.
3) Сборщики податей могли ввести его в соблазн и всех тех нищих, которые живут в воле Бога по учению Иисуса. И Иисус сказал, что по пятому правилу – (не делать различия между народами, сыны Бога ничем никому не обязаны, но тут же говорит, что для того чтобы не быть соблазнам, надо исполнить правило непротивления злу, и чтобы избавить от соблазна других, лучше пойти поработать и дать, что требуют, чем отказать.
4) Ученики Христа рассуждают, что такая покорность злу может усилить зло, и что придется семь раз в день прощать. На это Иисус говорит, что рассуждение не нужно. Рассуждение – соблазн, а надо прощать по первому правилу: не сердись, а рассердился – мирись.
5) Фарисеи по закону хотят позволить перемену жены. Иисус отвечает, что это соблазн для себя, для жены и для другого. Ученики рассуждают и говорят: тогда лучше не жениться. Иисус говорит: рассуждение есть соблазн, надо не делать соблазна; а рассуждать нечего, что лучше, что хуже, а надо исполнять второе правило о том, чтобы не смотреть на женщину, как на плотскую утеху.
6) Человек из народа просит Иисуса рассудить его по наследству. Иисус говорит, что человек, который берет на себя судить, отдается соблазну рассуждения. По четвертому правилу суд легок: отдай все, что берут у тебя.
7) Фарисеи приводят блудницу и спрашивают: хорошо ли она сделала, нужно ли казнить, чтобы исправить.
Он говорит: я рассуждать не могу; знаю, что дурно она сделала, желаю, чтобы она не делала больше, – а только рассуждение о пользе наказания может привести к соблазну казни. Ответ в четвертом правиле: не противьтесь злу, не судите.
8) Законник – фарисей, вероятно, хочет ввести в соблазн Иисуса и говорит ему рассуждение о том, что нельзя всем прощать и всем делать добро, потому что люди не все одного народа, а есть враги. На это Иисус отвечает ему притчей, разъясняющей пятое правило, что все люди – дети одного Отца.
9) Фарисеи собираются с иродианами и хотят его заставить высказать свое отношение к власти. Он сказал, что отдай подать, чтобы не соблазнить их, но подать, стало быть, считает ненужною. Пусть он скажет, должно или не должно платить. По пятому правилу сыны Бога не знают различия царей и царств, и потому податей им платить не нужно, но если спрашивают, отдать ли что кесарю, или Ивану, или кому бы то ни было, то все отдай, но душу свою никому не отдавай, кроме Отца Бога.
10) Саддукеи умствуют и доказывают ему, что учение о жизни вечной невозможно, и на соблазн, на рассуждения он отвечает, что жизни ни будущей, ни прошедшей нет, а есть жизнь для, которой нет ни прошедшего, ни будущего.
Во всех соблазнах главные соблазнители – фарисеи. Иродиане соблазняли податью в Капернауме, саддукеи соблазняли речью о воскресении, фарисеи же соблазняли и беседой о разводе и судом блудницы, а потом, соединившись с иродианами, соблазняли вопросом о плате кесарю подати. Теперь же, после ответа саддукеям, они соединяются с ними и сообща дают главный вопрос, чтобы ввести его в соблазн.
Главные заповеди
(Мф. XXII, 35–37, Мр. XII, 29,30)
И спросил его один из них, законник, выпытывая его, и сказал:
Учитель, какая главная заповедь в законе?
И Иисус сказал ему:
Главное, владыко наш Бог – единственный наш владыко.
И ты будешь любить владыку Бога твоего из всего сердца, из всей души, из всей мысли и из всей силы твоей. Это главная заповедь.
Кύριος мы привыкли переводить, не приписывая слову этому никакого значения, кроме формы учтивости, между тем оно имеет определенное значение. Слово это значит: властелин, владыко, господин, хозяин, тот, в чьей власти находишься, чью власть чувствуешь. Иисус под этим словом разумеет не Бога на небе, но того владыку, власть которого всегда чувствует на себе человек, владыку духа, и он тотчас же указывает, что он именно так, а не иначе понимает это слово. (Смотри Мф. XXII, 43–45).
Иисус, чтобы ответить на вопрос саддукеев и фарисеев, избирает из двух книг Пятикнижия: Второзакония и Левит, два стиха, ничем не связанные по Моисеевым книгам, и связывает их совершенно особенно, т. е. выражает совершенно новое учение, не имеющее
ничего общего с Моисеевым, только пользуясь некоторыми словами Пятикнижия.
(Мр. XII, 31)
И другая такая же: будешь любить ближнего своего, как его самого.
Вариант этот, кажущийся странным, по привычке нашей читать этот самый известный из Евангелия стих как самого себя, при малейшем размышлении представляется необходимым. Прежде всего, надо хорошенько понять значение этого места. Фарисеи и саддукеи, соединившись, требуют от Иисуса, чтобы он в одной заповеди выразил свое учение, и выразил бы его словами закона. Сказать: люби господина своего Бога, и сказать именно так, – всем сердцем, всей душой и т. д., а потом вдруг сказать: любить ближнего, как самого себя, – было бы странно, когда не сказано, как любить себя самого. В разговоре можно сказать: я люблю его, как себя самого, но, определяя весь закон, кого и как надо любить, нельзя основой и мерой всего поставить чувство себялюбия только потому, что оно предполагается всем известным; это одно. Другое то, что при чтении себя самого одна заповедь не связана с другой, они совершенно независимы. И выходит две заповеди, а у него спросили одну – это другое. Третье то, что и у Мф. (XII, 39) и у Лк. (X, 27) во многих списках стоит вариант έαυτόν. Если в еврейском σεαυτόν и έαυτόν не имеет соответственного различия, то это было бы еще подтверждение. При чтении, его самого выходит, что Иисус говорит (и надо заметить, что он говорит не в повелительном, а в будущем), что весь смысл его учения в том, что ты (хочешь не хочешь) будешь всеми силами любить и повиноваться одному господину твоему, духу Бога в тебе, и что этот же дух Бога ты будешь любить в ближнем своем, так как он же самый и есть в каждом ближнем твоем.
(Мф. XXII, 40–42)
На этих двух заповедях весь закон и пророки.
И тогда Иисус спросил их:
По-вашему, что такое Христос?
Христос, кроме прямого своего значения помазанника, имеет весьма много определений, которые можно видеть во всех евангельских лексиконах и церковных сочинениях, но все эти определения имеют недостаток неясности и туманности, а между тем здесь Иисус говорит о чем-то определенном.
У Иоанна IV, 25: Самарянка сказала Иисусу: знаю, что придет мессия, называемый Христос, и когда придет, то возвестит нам все благо; 26. – И сказал Иисус: это я, тот, что говорю с тобой, возвещаю все благо.
В другой раз Иисус, узнав у учеников, что они признают его за Христа, подтвердил это (Мф. XVI, 15; Мр. VIII, 29; Лк. IX, 20.)
Вот два места во всех 4-х Евангелиях, в которых Иисус называет себя Христом. В остальных же местах как бы не то, что не хочет, а не может называть себя Христом. Он, очевидно, называет себя Христом, но только в одном известном смысле.
Во всех списках, где говорится о Христе, видна эта борьба Иисуса со своими слушателями; они хотят понять его Христом в смысле человека, сына Давида, имеющего прийти в известное время, а он восстановляет другое понятие Христа, не зависящее от времени. Только самарянке, которая сказала: Христос возвестит нам истинное благо, и Петру, сказавшему, что Христос – сын Бога жизни, он сказал: да, я тот самый Христос, тот, кто возвестит благо, и тот, кто сын Бога жизни.
Во всех же других случаях он упорно отрицается от того, что он Христос, мессия, сын Давида.
Ин. X, 24. Ему говорят: не мучь нас, если ты Христос, скажи прямо, и он не отвечает, потому что, если он скажет прямо, как они хотят, он именно скажет не то, что он думает. Точно так же он не отвечает и на суде. Мало того, Мф. XVI, 20, он после того, как одобрил Петра за то, что тот признал его Христом в смысле сына Бога жизни, – он запрещает ученикам говорить, что он, Иисус, есть Христос. Он Христос в том смысле, что он учением о сыновности возвестил истинное благо. Но, как Иисус, он не Христос и запрещает ученикам говорить это кощунство. Поразительно недоразумение об учении Христа, начавшееся при его жизни, приведшее его на виселицу и продолжающееся до сих пор. Основа учения Христа есть учение о сыновности человека Богу, то, что сказано в беседе Никодима.
Вопрос веры в народе, среди которого проповедует Иисус, один и тот же всегда и везде, состоит в том: мы несчастны, мы гибнем, кто, и когда, и как спасёт нас? Христос, мессия, Спаситель, – это все одно и то же. Иисус говорит: спасение человека в нем самом, в его сыновности Богу. И эту мысль он выражает со всех сторон, стараясь отделить ее от грубого представления спасения и счастья во времени. И теперь нельзя выразить его мысль иначе, как именно так, как он выражает ее со всех возможных сторон, – все одна и та же мысль о духовности спасения. И во всех формах, в которых он ни выражал эту мысль, во всех ее перевернут, поймут навыворот – или признают его мессиею, Христом, Богом и обоготворяют его, или распинают его за то, что он называет себя Богом. А он одинаково отталкивает от себя и боготворящих, и потому не понимающих, и распинающих его.
(Мф. XXII, 42–44)
Сын ли он человеческий? И отвечали ему: Давидов.
И сказал им Иисус: так как же Давид называет Христа по духу своим владыкой?
Сказал Господь владыке моему: будь по правую руку мою, пока побежду врагов твоих.
Стих этот из 109 псалма есть первый, и последующий ничего не разъясняет. Надо полагать, что Иисус понимал слова эти так, что Давид призывал к себе владыку своего Христа спасителя и что так же понимали законники; но не важен смысл стиха, важно то точное определение, которое получается по этому месту слову Христос – такое определение, с которым согласны и законники, и Иисус. Значение слова – (неразборчиво), здесь равнозначащее со словом Христос, есть спаситель. Надо не забывать, главное, что это место, следует непосредственно за изложением главной заповеди и толкуется то самое слово, которое служило определением заповеди: «Любить владыку Бога твоего всеми силами, и ближнего как Его», т. е. как этого владыку. Здесь сказано, что владыка этот и есть спаситель и был спасителем Давида.
(Мф. XXII, 45, 46)
Если же Давид называет его владыкой, как же он может быть его сын?
И не смели больше его спрашивать.
Последние слова: «и не смели больше его спрашивать», явно показывают, что эта речь есть продолжение речи по вопросу: «какая главная заповедь?»
ОБЩЕЕ ПРИМЕЧАНИЕ
Для толкователей это место представляется отрывочным, и весь смысл для них только в тонкости диалектики Иисуса. А место это, кроме того, что есть ключ к пониманию того, что хотел Иисус, чтобы люди разумели под словом Христос, и что люди разумели и разумеют под ним, есть еще и изъяснение в самой сжатой форме всего учения.
После всех попыток, споров и опровержений учения Иисуса фарисеи и саддукеи собираются вместе и задают ему вопрос о том, как он понимает закон и учение.
И он говорит: одна есть только заповедь, т. е. один закон жизни человека. Закон этот такой, что он не приказание извне, но что это так было и будет и иначе быть не может. Закон этот тот, что ты будешь любить всеми силами своего владыку – Бога, т. е. то разумение, которое есть в тебе, и будешь любить ближнего, потому что он – то же разумение. И спасителя нет другого, как только этот владыко жизни, и не было другого ни во времена Давида, ни во времена Авраама. Этот владыко жизни один во всех людях всегда, он один есть.
О соблазне фарисейском, саддукейском и иродовом
(Мф. XVI, 6/Мр. VIII, 15/; Мф. XVI, 7; Мф. XVI, 11 /Мр. VIII, 15/; Мф. XVI, 12; Лк. XII, 1,2)
И Иисус сказал: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской и иродовой.
Ученики подумали, что он говорит о хлебе.
Тогда он сказал им: как вы не понимаете, что не о хлебе я говорю, берегитесь, закваски фарисейской, саддукейской и иродовой?
Тогда они поняли, что он говорил им не о том, чтобы остерегаться хлеба, а говорил об учении.
Но более всего берегитесь закваски фарисейской; она – обман.
А нет того скрытого, что бы не открылось, и тайного, что бы не стало известно.
Высказав свое учение, Иисус предостерегает против закваски. Слово «закваска» ученики понимают в смысле учения, но Иисус сказал бы учение, если бы он разумел учение. Кроме того, он не мог бы сказать учение Иродово; Иродова, царского учения не было. То, про что он говорит, он называет закваской, т. е. тем, что, как теперь бы мы сказали, химически соединяется с телом и вполне изменяет его. Закваска, положенная женщиною в квашню и изменившая всю муку, была сравнением для того, чтобы выразить то, что совершается перед лицом Бога и всем миром людей оттого, что в мир вложено разумение блага. То же сравнение Иисус употребляет для того, чтобы выразить то начало, которое вложено в мир и которое, соединяясь с людьми, производит зло. Такая же закваска – закваска фарисейская, саддукейская и иродова – изменяет совсем человека, переставляя для него добро и зло, делает то, что добро кажется злом и наоборот. И Иисус говорит, что необходимо беречься такой закваски. Заквасок этих – начал зла Иисус называет три и обращает особенное внимание на закваску фарисейскую. Определяя ее, он говорит, что она есть притворство, комедианство.
Закваска саддукейская – это закваска рассудительности.
Саддукеи, по тому, что признано о них наукой, это люди, не признававшие ничего, кроме писаного закона. Они не признавали ничего, кроме земной жизни. Во всем остальном они сомневались. Жизнь вели развратную и сладкую.
По Евангелию, саддукеи – это те, которые просят знамения, чтобы поверить; это те, которые с улыбкой спрашивают: чья будет жена из семи братьев, и которые желают, чтобы не было им никакого ответа; это те, которые спрашивают точного определения ближнего; те, которые ее скрывают своего неведения, гордятся своим неведением и успокаиваются в своем неведении. И потому под закваской саддукейской надо разуметь научный материализм.
Закваска Иродова – это закваска власти.
Иродиане – это те, которые считают, что насилия власти необходимы для блага людей; те, которые, считая Иоанна святым, посадили в тюрьму и потом убили его в угоду плясунье; это те, которые собирают подати, судят, казнят, воюют. Это те, которые обрадовались, увидев Иисуса, и все-таки распяли его.
Под закваской Иродовой надо разуметь учение государственности, юриспруденции.
Закваска фарисейская – это закваска церковности.
Фарисеи, по Евангелию, – это те, которые упрекают за несоблюдение субботы, за нечистые руки, за сближение с грешниками и грешницами; те, которые привели казнить блудницу; те, которые всегда были с иродианами; те, которые особенно настаивают на том, чтобы мужу можно было менять жен, и которые подкупают Иуду, чтобы предать Христа, те, которые молятся громко, благодаря Бога за то, что они лучше всех, и те, которые распинают Иисуса.
К ним-то преимущественно и говорит Иисус, говорит гневно один только раз во всю жизнь свою. Пуще всего берегитесь этой закваски!
(Лк. XX, 45, 46)
И когда весь народ понял его, он сказал ученикам своим:
Берегитесь фарисеев.
На последний соблазн фарисеев и саддукеев, вызывавших Иисуса высказать свои основы, Иисус высказал их, но, как и прежде, они не понимали его. Он видит, что и теперь ясное, простое учение его о том, что всякий знает в себе, не будет понято, не потому, что люди не знают его (люди знают его), но потому, что глаза людей затемнены ложным учением. И он говорит против главного источника всех заблуждений людей – ложного учения.
(Мф. XXIII, 2, 3)
И место пророка Божия Моисея заняли ученые и фарисеи.
Так что все, что они говорят вам: «исполняйте и делайте». По примеру их жизни и вы не делаете, потому что они говорят и не делают.
По-моему, значит: берегитесь фарисеев потому, что они не руководят; они только говорят «делайте». А так как сами не делают, то и вы следуете их примеру – ничего не делаете.
(Мф. XXIII, 4)
Потому что они связывают ноши тяжелые и неподъемные и накладывают на плечи людям, а сами пальцем не хотят пошевелить их.
Ноши закона тяжелые, и никто их не Исполняет. Ноша Иисуса легкая. Речь все продолжается о том, почему никто не исполняет закона и не делает дел; это происходит потому, что 1) они говорят и не делают и примера не подают; 2) потому, что то, что они велят делать, слишком трудно, и трудность эта для них не важна, потому что они не помогают поднять ношу.
(Мф. XXIII, 5-10)
Только для того, чтобы любовались на них люди, навешивают на руки четки и выпускают подолы ряс и мантий;
любят на обедах на первое место садиться и в церквах на возвышенные кресла;
любят, чтобы им руки целовали на народе и чтобы называли их: наставник! учитель!
А вы не называйтесь учителями, потому что у вас один учитель Христос и вы все братья.
И батюшкой никого не называйте на земле, потому что один Отец у вас на небе.
И не называйтесь вождями или наставниками,
потому что один ваш вождь и пастырь Христос.
Следующие за этим стихи 11 и 12 выпускаются здесь как неуместные. Стихи эти помещены в другом месте. Также стих 14, XXIII, Мф.: Горе вам, ученые и фарисеи, за то, что поедаете дома вдов и притворяетесь, что долго молитесь, за это вас строже будут судить.
Стих этот, кроме того, что неуместен, ничего не прибавляет к тому, что сказано.
(Мф. XXIII, 13; Лк. XI, 52; Мф. XXIII, 15)
Горе вам, ученые и фарисеи, притворщики, за то, что запираете от людей царство Бога, потому что вы сами не входите и другим мешаете войти.
Горе вам, уставщики, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и другим помешали.
Несчастные вы, ученые и фарисеи, лицедеи, объезжаете моря и земли, чтобы заставить человека поклясться вам в том, что он будет держаться вашей веры и слушаться вашего начальства.
Пροσήλυτος назывался тот человек, который давал присягу в том, что он будет исполнять закон иудейский. В числе обещаний, которые давали прозелиты, была присяга в том, чтобы повиноваться начальству.
(Мф. XXIII, 15–22)
А когда он поклянется, то становится сыном пропасти и вдвое хуже еще вас.
Несчастные вы, вожаки слепые; вы говорите, что кто поклянется храмом, то
ничего, а кто поклянется золотом в храме, то должен исполнить.
Глупые и слепые! что больше: золото или храм, то, что освящает золото?
И кто клянется алтарем, то ничего, а кто даром на алтаре, тот должен исполнить.
Глупые и слепые, что больше: алтарь или дар?
Кто клянется алтарем, тот клянется и тем, что на нем и что под ним.
И тот, кто клянется храмом, тот клянется им и Живущим в нем.
И кто клянется небом, клянется престолом Бога и тем, что над ним.
Сказав, что ученые и фарисеи мешают людям быть в царстве Бога, Иисус показывает, чем именно они запирают двери царства Бога – внешностью веры, клятвой. Он говорит, что вы, объезжая моря и земли, стараетесь привлечь к своей вере людей клятвой, но, во-первых, человек, который поклялся вперед в повиновении, становится хуже, чем он был; во-вторых, нельзя человеку ничем клясться. Он говорит; сказать, что для человека может быть обязательна какая-нибудь клятва, это все равно, что сказать, что содержимое может быть больше содержащего, что золото в храме больше храма, что жертва, вкладываемая в жертвенник, больше жертвенника, что небо больше Бога. Всякая клятва, всякое обещание дается живым человеком, жизнью, а жизнь есть то, что выше всего, что вмещает в себя все, так как же может человек обещать проявлением жизни за жизнь?
(Мф. XXIII, 23)
Горе вам, ученые и фарисеи, притворщики! выплачиваете десятину с мяты, с тмину и с анису, а не исполняете того, что трудно в законе; справедливость, милосердие, веру в Бога. Вот это-то надо было исполнять.
Иисус говорит: вы выплачиваете правильно десятину с пряностей, с того, что есть дело роскоши, чего нельзя употреблять много, что само по себе не нужно, как мята, анис, тмин; но то, что трудно исполнить, того вы не делаете, а это только и нужно исполнять.
(Мф. XXIII, 24–31)
Слепые вожаки, комара хотите отцедить, а верблюда проглатываете.
Горе вам, ученые и фарисеи, притворщики, за то, что снаружи стаканы и блюда вычищаете, а внутри вас кишит грабеж и неправда.
Фарисей слепой, вычисти прежде нутро сосуда, тогда и снаружи будет чисто.
Горе вам, ученые и фарисеи, притворщики, что вы как крашеные гробы. Гробы кажутся красивыми, а внутри кишат костями и всякой нечистью.
Так и вы, снаружи кажетесь людьми праведными, а внутри полны притворства и беззакония.
Горе вам, ученые и фарисеи, притворщики, за то, что строите церкви пророкам и разукрашиваете раки мучеников,
и говорите: если бы мы были во времена отцов наших, мы бы не были участниками в крови пророков.
Так что сами на себя показываете, что вы сыны тех, которые побили пророков.
«Вы говорите: «если бы мы жили во времена, когда наши отцы, и были бы учителями закона, как были наши отцы, то мы не побили бы их». Но ведь и отцы ваши побили пророков только потому, что они были учителями. Так, стало быть, вы сами на себя и показываете: те взяли на себя быть учителями, они и побили пророков; вы взяли на себя быть учителями, и вы побьете. Ведь я сказал, что не должно быть учителем».
(Мф. XXIII, 32–34)
И вы дополняете меру ваших отцов.
Ах вы, змеи, отродье ехидны, куда уйдете от погибели геенны?
Потому что, вот я поставил вам пророков мудрых ученых; и их вы одних побьете и распнете, других будете сечь в ваших собраниях и будете гонять из города в город.
Т.е., я научил людей истине, и все люди эти – пророки, их-то вы и побьете.
(Мф. ХIII,35) Так что на вас падает вся кровь праведная, пролитая на земле от Авеля праведного и до Захария, которого убили в храме.
Слова этого стиха надо понимать не как риторическую фразу, а как точное определение. Вся кровь, все убийства с начала мира и до сих пор – казни, войны, все это дело тех, которые закрывают от людей Бога и на место Бога ставят идола.
Следующие три стиха (36–38) хотя и не нарушают смысла всей речи, но не совсем ясны и ничего не прибавляют к изложению, потому я выпускаю их.
(Мф, ХХIII, 39)
Потому что, говорю вам, не поймете моего учения до тех пор, пока не
скажете: благословен тот, кто приходит во имя Бога.
О хуле на духа святого
(Мр. III, 28, 29)
Потому что, вы сами знаете, что все ошибки могут пройти людям и все поругания, какие бы они ни делали.
Но если кто надругается над духом Бога, тому это не пройдет в этом веке, но он подлежит погибели века.
Стих этот выражает то самое, что выражает все обличение фарисеев.
ОБЩЕЕ ПРИМЕЧАНИЕ
Человек может грешить, ошибаться, ругаться над всеми в мире, и все-таки он может носить в себе дух Бога.
Но когда надругается над самим этим духом, над тем, что есть его жизнь, то уже он сам отнял у себя жизнь. Ужасны и страшны все соблазны. Соблазны личные: похоти, корыстолюбие, тщеславие; ужасны общие соблазны: соблазны земных рассуждений саддукеев, производящие равнодушие к истинной жизни, прилепление людей к одному земному и гордость ума; ужасны соблазны, выставляющие высоким то, что мерзость перед Богом, соблазны властей, производящие суды, казни, грабеж, войны, убийства; но ужасней всех соблазнов соблазны, выходящие из закваски фарисейской: притворство, выставление неправды вместо божеской правды, презрение Бога в душе и пользование именем его для заблуждения людей и достижения своих целей. Иисус знал вперед, что как ни враждебно его учение иродианам и саддукеям, они не стоят на дороге этого учения, от них можно еще освободиться, но фарисеи заграждают, заграждали и всегда будут заграждать путь к его учению.