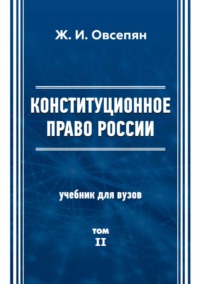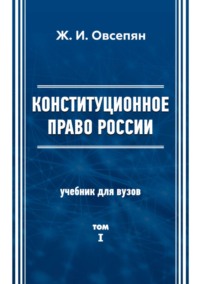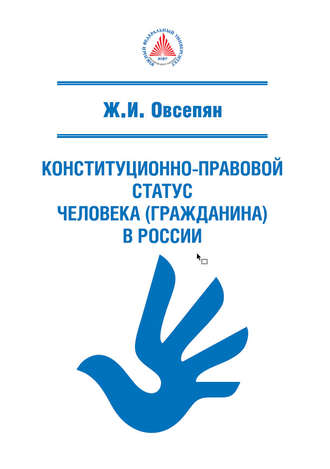
Полная версия
Конституционно-правовой статус человека (гражданина) в России

Ж. И. Овсепян
Конституционно-правовой статус человека (гражданина) в России
Глава 1. Развитие учения о субъективном характере основных (конституционных) прав и свобод в классической научной теории
Учение о субъективном праве относится к числу старейших (исчисляемых многими столетиями) направлений юридических исследований, осуществляемых различными отраслями юриспруденции. Учение о субъективном конституционном (публичном – по терминологии конца XVIII и первых трех четвертей XIX столетия) праве является более молодой частью общего (и иного отраслевого правового учения), но и оно насчитывает уже два века (с XVIII столетия). Широкоформатные систематизации (либо обзоры) научных теорий о субъективной природе конституционных (публичных) прав можно найти в трудах таких выдающихся авторов (философов и юристов), как Г. Еллинек (1900 г.), Н. М. Коркунов (начало XX в.), Б. А. Кистяковский (начало XX в.), Я. М. Магазинер (30-е гг. XX в.), Л. Д. Воеводин, Н. И. Матузов, И. Е. Фарбер (70-е гг. XX в.), др. Однако каждая из них являлась полной для своего времени. Кроме того, и по сегодняшний день не осуществлена периодизация учений о субъективном праве. Предлагаемая работа посвящена указанным проблемным научно-теоретическим вопросам теории субъективного права. Цель исследования – обозначить хронологические показатели и изучить связь философских основ, утверждающихся в качестве господствующих воззрений на конституционное субъективное право, с теоретико-правовыми характеристиками последнего в соответствующих правовых учениях.
§ 1.1. Понятие (характеристика сущности) субъективного права
На протяжении уже трех столетий (XVIII–XXI вв.) ведутся исследования понятия субъективного права, в том числе в аспекте разграничения его с понятием объективного права. Соответствующие научные поиски осуществляются различными дисциплинами: философией, социологией, этикой, общей теорией права, гражданским правом, конституционным правом, иными правовыми отраслями. Создано множество учений о праве. По свидетельству специалистов, «ни в какой другой науке нет столько противоречащих друг другу теорий, как в науке о праве. При первом знакомстве с нею получается даже такое впечатление, как будто она только и состоит из теорий, взаимно исключающих друг друга»1. Вместе с тем при более внимательном рассмотрении соответствующих учений можно заметить, что понятие права во всех них состоит из более или менее совпадающего и более или менее широкого набора идентичных признаков (свойств, элементов) права. Однако эти признаки различным образом скомбинированы, по-разному определяется очередность, значимость тех или иных признаков права для характеристики его сущностного образа. Соответственно, по этому основанию – приоритетного признака – проводится разграничение учений о сущности субъективного права. С учетом сказанного можно сделать вывод, что каждое из учений о праве позволяет дать углубленную характеристику тому или иному из сущностных свойств субъективного права и вместе с тем – составить совокупный перечень (систему) признаков, характеризующих понятие сущности субъективного права. Иными словами, «сложение» различных теорий о субъективном праве позволяет сконструировать целостную систему его существенных признаков (свойств).
Предваряя анализ признаков субъективного права, обратимся прежде к вопросу об истории разграничения понятий «субъективное право» и «объективное право». По оценкам, которые были даны в российской юриспруденции еще в дореволюционный период (начало XX столетия), различение понятий «субъективное право» и «объективное право» во многом связано с именем выдающегося немецкого ученого-правоведа Рудольфа фон Иеринга (1818–1892). Как отмечал приват-доцент Императорского Московского университета Ф. Ф. Кокошкин (1871–1918), «Иеринг, подвергнув критике господствовавшее до него формальное определение права, выдвинул вместо него свое материальное определение, характеризующее право не со стороны его внешней формы, а со стороны его цели. Всякое субъективное право служит удовлетворению известной человеческой потребности, осуществлению определенного человеческого интереса. В этом интересе и лежит сущность права, по мнению Иеринга и его школы. Субъективное право есть защищенный нормой объективного права интерес, субъект права – тот, чей интерес защищен в том или другом случае юридической нормой»2.
Обращение к концепции субъективного права связано также с влиянием практики принятия конституционных актов о правах и свободах, получившей распространение во многих государствах Европы и Северо-американских Штатах начиная с конца XVIII столетия. Г. Еллинек характеризует историю зарождения этого влияния следующим образом: «В течение XVIII столетия естественно-правовые теории в связи с политическими и социальными отношениями, обнаружившими необоснованность многих из существовавших тогда ограничений индивидуальной свободы, порождают в Америке представление о значительном числе общих прав свободы, которые в качестве условия вступления индивида в государство являются для последнего неприкосновенными: государство только вправе предупреждать злоупотребление ими… Освобождаясь от английского господства, колонии убеждены, что совершают не восстание, а только защищают свои права. Конституции сделавшихся суверенными колоний, прежде всего Конституция Виргинии, начинаются с биллей или деклараций прав, которые, по мысли их авторов, должны были заключать в себе краткий кодекс всех правовых притязаний индивида по отношению к государственной власти. Пример Соединенных Штатов находит себе затем подражание во Франции»3. Там в 1789 г. Учредительным собранием была принята Декларация прав человека и гражданина. «Она была введена в Конституцию 1791 г. и повторена с некоторыми изменениями в двух следующих конституциях. Из позднейших французских конституций приобрела значение Хартия 1814 г., которая заменила общие права человека скудно отмежеванными правами французов и под влиянием которой такого рода права гражданина были санкционированы конституциями многих других государств. Затем бельгийская конституция 1831 г. выставила гораздо более широкий перечень прав гражданина, влияние которого, в свою очередь, отразилось на многочисленных конституциях. Выработка такого каталога основных прав сыграла значительную роль и в конституционном движении 1848–1849 гг. в Германии и Австрии. <…> Под влиянием этих воспринятых конституциями положений возникло учение о субъективном публичном праве»4. С этого времени, как можно судить по трудам Г. Еллинека, и начинается исследование субъективной природы прав и свобод: начало учению о субъективном праве положила дискуссия о признании (непризнании) наличия субъективных прав в публичном праве, поскольку частное право идентично субъективному в полном объеме.
Из трудов Г. Еллинека также следует, что со второй половины XVIII в. и в дальнейшем «сталкиваются два резко отличных друг от друга основных воззрения. Одно признает субъективное право однородным по структуре с правом частным, от которого оно отличается только по характеру субъектов публичного правоотношения: в последнем противостоят друг другу властвующее государство или публичный союз и подчиненный индивид, в противоположность основанному на координации частному праву. Второе отрицает существование субъективного публичного права индивида и усматривает в том, что обыкновенно обозначают этим именем, только рефлекс положений публичного права»5. Интересно обоснование Еллинеком субъективной природы правомочий лица как в частном праве, так и в публичном. В этой связи он дает определения субъекта права и субъективного права. По Еллинеку, «субъектом… прав является тот, кто может в своем интересе привести в движение правопорядок»; эта способность индивида, «как и всякая ограниченная индивидуальная, признанная правом сила», создает «субъективное правомочие». Автор указывает, что «эта способность признается (по состоянию на 1900 г. – Ж. О.) за индивидом только в области гражданского правосудия»; между тем, по Еллинеку, в связи с введением конституционных (основных) прав индивид признается «лицом и членом государства», т. е. личность признается публично-правовым понятием, что служит «основой всех публично-правовых притязаний» к государству. Более того, личность со времени перехода к конституционному государству «является условием частного права и всякого правопорядка вообще, который таким образом тесно связан с существованием индивидуальных публичных прав» как субъективных6. Г. Еллинеку же принадлежит разъяснение того, что «как объекты государственной власти индивиды являются носителями обязанностей, как члены государства – субъектами прав»7.
Обратимся к дифференцированному анализу учений о субъективном праве и, соответственно, признаков субъективного права, выделяемых теми или иными учениями в качестве основных в характеристике сущности субъективного права.
1. Важнейшей из характеристик права в объективном и субъективном смыслах является его определение как юридического выражения (воплощения) свободы человека (индивида). Эта дефиниция субъективного права в науке сложилась под влиянием выдающегося немецкого философа И. Канта (1724–1804). В работе «Метафизика нравов» (1797) он дал определение понятия субъективного права, в основу которого положен принцип свободы. Кант писал: «право есть совокупность норм, устанавливающих и разграничивающих свободу лица», «право – это совокупность условий, при которых произволение одного совместимо с произволением другого с точки зрения всеобщего закона свободы»8.
В связи с многозначностью философских определений свободы различаются и многообразные определения понятия субъективного права, соотносимые с категорией «свобода». Кстати, этим обстоятельством (многообразием определений понятия «свобода») объясняется и многообразие признаков, которые характеризуются как сущностные свойства права, понимаемого через категорию «свобода». В философской литературе под понятием свободы понимается «возможность поступать так, как хочется»; кроме того, свобода определяется как свобода воли, поскольку «воля по своей сущности всегда свободная воля»9.
В процессе развития человеческого общества приоритет приобретали те или иные аспекты сущностного содержания субъективного права как свободы. Как указывается в философской литературе, «в истории развития понятия свободы с древнейших времен понятие творческой свободы постепенно вытесняет понятие свободы от препятствий (принуждения, казуальности, судьбы). В философии древности (у Сократа и Платона) речь идет прежде всего о свободе и судьбе, затем о свободе от политического деспотизма (у Аристотеля и Эпикура) и о бедствиях человеческого существования (у Эпикура, стоиков и в неоплатонизме). В Средние века речь идет о свободе от греха и о проклятии церкви, причем возникает разлад между нравственно требуемой свободой человека и требуемым религией могуществом Бога. В эпоху Ренессанса и последующий период под свободой понимали беспрепятственное всестороннее развертывание человеческой личности. Со времен Просвещения возникло понятие свободы, заимствованное у либерализма и естественного права (Альтузий, Гоббс, Гроций, Пуфендорф, в 1689 г. в Англии Билль о правах), сдерживаемое все углубляющимся научным взглядом, признающим господство всемогущей естественной причинности и закономерности. В немецкой религиозности и философии, начиная от Мейстера, Эсхарта, включая Лейбница, Канта, Гёте и Шиллера, а также немецкий идеализм до Шопенгауэра и Ницше, ставится вопрос о свободе соответствия сущности и ее развития. Марксизм считает свободу фикцией: в действительности человек мыслит и поступает в зависимости от побуждений и среды, причем основную роль в его среде играют экономические отношения и классовая борьба»10.
Новые нюансы в теорию свободы внес экзистенциализм. Так, «согласно экзистенциализму Сартра11, свобода – не свойство человека, а его субстанция. Человек не может отличаться от ее проявлений. Человек, поскольку он свободен, может проектировать себя на свободно выбранную цель, и эта цель определяет, кем он является. Вместе с целеполаганием возникают и все ценности, вещи выступают из своей недифференцированности и организуются в ситуацию, которая завершает человека и которой принадлежит он сам»12. Свобода воли делает возможной и практическую свободу13.
Основоположник понимания субъективного права как свободы И. Кант исходил прежде всего из двух аспектов в понимании свободы: «внешней свободы» (т. е. свободы действий, которая, как писал Кант, на практике часто превращается в произвол) и «внутренней свободы» (свободы воли). Кант замечает, что право есть регулятор внешнего поведения, внутренне же человек таким регулятором не может быть ограничен, свобода воли, строй мыслей человека не должны регулироваться (ограничиваться, пресекаться) другими гражданами или государством. По Канту, «право подразумевает свободу индивидов (свободу их воли) и связанную с этой свободой возможность (и необходимость) произвола, столкновения и коллизию различных произвольных действий и т. д.; право и есть общее для всех правило (совокупность правил) согласования произвольных, коллизионных действий свободных лиц. Смысл и назначение права в том, чтобы ввести свободу и произвол всех индивидов (как властвующих, так и подвластных) в разумные и общезначимые рамки. Право касается лишь действий и обозначает только внешние границы обще-допустимого поведения, т. е., иначе говоря, выступает, по существу, в виде запретов, подразумевая дозволенность незапрещенного»14. Право не затрагивает строй мыслей человека. «Никто не вправе, – поясняет философ, – предписывать с помощью внешнего закона то, ради чего он должен жить или в чем непосредственно надо видеть ему свое личное благо и счастье»15.
Вслед за И. Кантом формулируются через категорию свободы совпадающие и иные определения права, отражающие приведенные выше философские дефиниции понятия свободы. Так, в начале XX в. под субъективным правом понимались: «признанная законом за данным лицом, в известном направлении и в известных пределах свобода действий» (Д. Д. Гримм, 1910); «индивидуальные вольности, основанные на законе» (М. М. Ковалевский, 1906)16, др. Обращает на себя внимание то, что в соответствии с кантовской и неокантианской философией в ранних конституционных актах, принятых в конце XVIII столетия, характеристики субъективного права через понятие «свобода» имеют соответствующие признаки. Прежде всего, они основаны на понятии свободы от политического и экономического деспотизма. Кроме того, в своих нормах сформулированы не только с учетом дифференцированного понимания свободы – включающей такие ее виды, как свобода воли, свобода тех или иных действий, но и с учетом понимания ее как единого, комплексного, сложносоставного субъективного права, противопоставляемого праву власти.
Так, французская Декларация прав человека и гражданина от 26 августа 1789 г. в числе «естественных и неотъемлемых прав человека» называет свободу, собственность, безопасность и сопротивление угнетению. Права человека и гражданина в Декларации сформулированы и как отдельные виды свобод (или «вольностей»), составляющих общее право свободы: свобода «делать все, что не приносит вреда другому», свобода выражения мыслей и мнений, свобода писать и печатать, др. (пп. 4, 11, др.).
Влияние философских учений, характеризующих субъективное право через категорию свободы, прослеживается и в Конституции США 1787 г. В отличие от французской Декларации, в американском Билле о правах (первых десяти поправках к Конституции США, принятых Конгрессом в 1789 г. и ратифицированных штатами в 1791 г.) нет формулировки права на свободу как многоаспектного социального блага, а предусматриваются права на отдельные виды свобод: свободное исповедание религии, свободу слова, печати, нек. др.17
Влияние философских учений, связанных с характеристикой права как свободы, хотя и со своеобразным (классово ограниченным) истолкованием последней, можно обнаружить и в первой конституции советского типа – Конституции РСФСР от 10 июля 1918 г. Здесь также формулировались нормы об индивидуальной свободе, но эта свобода толковалась с позиций приоритета начал коллективной (классовой) свободы по отношению к индивидуальной. Так, провозглашались прежде всего свободы коллективных общностей: свобода наций (п. 2 гл. 1), свободное социалистической общество всех трудящихся (п. 10 гл. 5), а уже затем отдельные свободы, которыми наделялись только трудящиеся: свобода совести (п. 14), свобода собраний (п. 15), свобода организаций (п. 16, гл. 5)18. В последних советских конституциях (СССР 1936, 1977 гг. и РСФСР 1937, 1978 гг.) о свободе общества в целом уже не упоминалось. В преамбуле Конституции СССР 1977 г., например, в пространных определениях признаков социалистического общества оно ни разу не было названо свободным. Но в главах, посвященных правовому статусу личности, отдельные личные и политические права в указанных Конституциях СССР и РСФСР именовались свободами. Так, в Конституции СССР 1977 г. закреплялись: свобода научного, технического и художественного творчества (ст. 47), свобода слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций (ст. 50), свобода совести (ст. 52). Вместе с тем в советских конституциях не признавались такие важнейшие из свобод, как свобода мысли и идеологический плюрализм, свобода объединений была ограничена «целями коммунистического строительства» (ст. 51 Конституции СССР 1977 г.).
Соответственно состоянию конституционного регулирования в юридической литературе советского периода рядом авторов также давались определения субъективного права через категорию «свобода»19. Однако понимание субъективного права как «известной сферы свободы» в советской науке было основано на критической оценке кантианского и неокантианских учений, которые, как тогда писали, допускают «разрыв и противопоставление свободы человеческих поступков – внешней свободы – внутренней нравственной свободе воли»20. Важной частью такого рода определений являлись указания на пределы индивидуальной свободы, недопустимость «крайнего индивидуализма», который политически осуждался. В юриспруденции это выражалось в реализации принципа приоритета коллективных (общественных, государственных) интересов над индивидуальными (субъективными) правами и интересами. В советский период требовалась «для практики осуществления субъективных прав… направленность правовых действий и на собственные интересы и цели управомоченного лица, и социалистического общества в целом, а также коллектива, в котором живет и работает гражданин – обладатель субъективного права»21.
Дефиниции права как формы свободы осуществляются и в российской юриспруденции постсоветского, постсоциалистического периода. Однако в их основе лежит не вопрос о балансе общественных и индивидуальных интересов. Как раз в этом отношении российская наука конца XX – начала XXI в., вслед за официальной практикой, исходит из однозначной, противоположной советской теории и практики, позиции, а именно из признания условного приоритета индивидуальных прав перед какими бы то ни было большими или малыми коллективами, государством, обществом. В постсоциалистической российской юриспруденции определения понятия субъективного права через категорию «свобода» формулируются на основе иных, соответствующих классическим европейским философским представлениям, аспектов понятия «свобода». Так, один из выдающихся российских ученых В. С. Нерсесянц определяет субъективное право через категорию «свобода» на основе понимания свободы как всеобщей связанности субъектов общей нормой права, равной их подчиненности общей норме. По его мнению, «неправовая свобода, свобода без всеобщего масштаба и единой меры – словом, так называемая свобода без равенства – это идеология элитарных привилегий, а так называемое равенство без свободы – идеология рабов и угнетенных масс…»22.
Кроме того, В. С. Нерсесянц указывает, что право как свобода идентично свободе воли. Он пишет: «Свобода индивидов и свобода их воли – понятия тождественные. Воля в праве – свободная и вместе с тем разумная воля, которая соответствует всем сущностным характеристикам права и тем самым отлична от произвольной воли и противостоит произволу. Волевой характер права обусловлен именно тем, что право – это форма свободы людей, т. е. свобода их воли, включающая в себя возможность осознанного выбора и реализации того или иного варианта поведения»23.
В завершение анализа отметим, что во всех действующих конституциях стран мира, в том числе в Конституции РФ от 12 декабря 1993 г., многие нормы о личных и политических правах, – а начиная с германской Веймарской Конституции 1919 г. и целого ряда социально-экономических прав – формулируются как свободы. В этом можно видеть влияние философских учений, определяющих сущность субъективного права через категорию свободы, которые были восприняты первыми в мировой практике конституциями и конституционными декларациями, чей опыт отразился и в последующем конституционном развитии различных стран.
2. Помимо определения права в объективном и субъективном его понимании как юридического выражения (воплощения) свободы человека (индивида), другой его существенной характеристикой является то, что право выступает категорией разума и высокой нравственности (правом справедливости). О значении разума и нравственности для философской характеристики не только сущностных свойств права, но и всей системы мировоздания говорит высоким поэтическим слогом в своей работе «Критика практического разума» (1790) родоначальник немецкой классической философии И. Кант. «Две вещи, – пишет он, – наполняют душу все новым и возрастающим удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее занимается ими размышление: это – звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас. То и другое я не могу искать и как бы только предполагать как нечто, скрытое во мраке или в беспредельности и лежащее вне моего горизонта; я вижу их перед собою и соединяю их непосредственно с сознанием своего существования… Первый взгляд на это бесчисленное множество миров как бы уничтожает мое значение как животного создания, принужденного возвратить своей планете (этой точке вселенной) ту материю, из которой оно произошло и которая на короткое время и неизвестно как была снабжена жизненной силой. Второе созерцание, напротив, бесконечно возвышает мое достоинство как одаренной разумом силы, как личности, в которой нравственный закон обнаруживает жизнь, независимо от животного существования и даже от всего чувственного мира; таково, по крайней мере, свидетельство этого закона, определяющего мою жизнь; требования его не ограничиваются пределами этого существования, но простираются в бесконечность»24.
Характеристика права через категорию нравственности предполагает ответ на вопрос, что такое нравственность (нравственное)? Как отмечается в Философском словаре, основанном немецким философом и лексикографом Генрихом Шмидтом (первое издание в Германии в 1912 г.), «сущность нравственности является предметом этики»25 как науки. Термин «этика» происходит от греческого ethika < ethos, что в переводе означает «обычай», «нравственный характер»26. Этика, таким образом, это учение о нравственности, морали27. Этика исследует, что в жизни и в мире обладает нравственной ценностью28.
В определении нравственности (ценности) в науке этике есть две методологически значимые проблемы, которые влияют и на концепцию субъективного права с позиций его идентификации с этическими категориями нравственного и ценностного.
Прежде всего, проблема в том, что по своему содержанию ценности многообразны, «различаются вещные ценности, логические, этические и эстетические: приятное, полезное и пригодное, истина, добро, прекрасное»29. Поэтому для использования понятия «нравственность» в целях определения сущностных свойств субъективного права необходимо отграничить этическое как сущностное свойство нравственного от иных ценностей. Именно с этическим (нравственным) аспектом принято ассоциировать ценностное в праве. С позиций этики суть нравственного есть добро30. Однако добро – это в первую очередь моральная, а не только правовая категория. Поэтому определения права через понятие добра как сути нравственно-этического неотъемлемо связаны с отграничением права от морали, дифференциацией понятий нравственности (добра) как элементов характеристики права и морали.
Для осуществления соответствующей дифференциации обратимся к научно-методологическим основам. Древнегреческий философ Аристотель, стоявший у истоков учения о нравственности, морали, этике, понимал под учением о нравственности особую область исследования – практическую философию, которая пытается «…ответить на вопрос: что мы должны делать? Этика учит оценивать всякую ситуацию, чтобы сделать возможными этически (нравственно) правильные поступки»31.