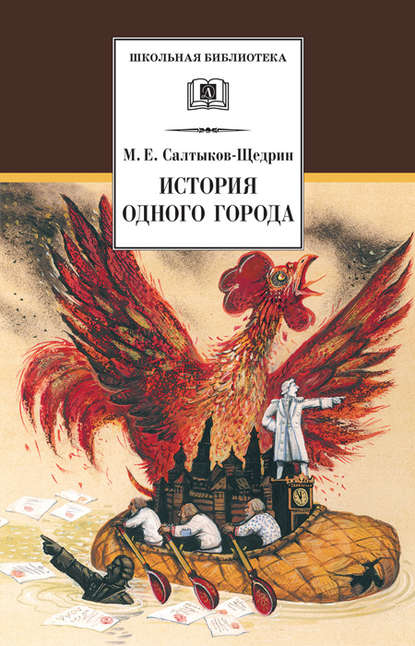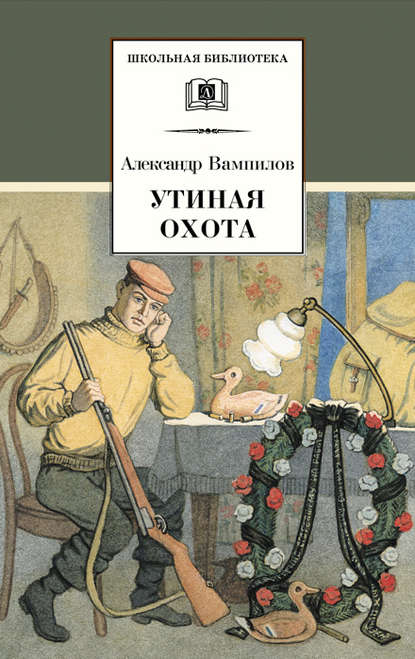Держатель Знака

Полная версия
Держатель Знака
Жанр: исторические приключениякниги для подростковгражданская войнадолг и честьРоссия XX векавремя и судьбыиллюстрированное изданиеБелое движение
Язык: Русский
Год издания: 2019
Добавлена:
Серия «Школьная библиотека (Детская литература)»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конец ознакомительного фрагмента
Купить и скачать всю книгу