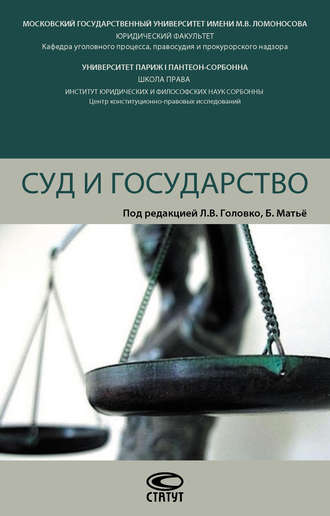
Полная версия
Суд и государство

Суд и государство
© Коллектив авторов, 2018
© Издательство «Статут», редподготовка, оформление, 2018
* * *Авторский коллектив
Беше-Головко Карин, президент ассоциации Comitas Gentium France-Russie, приглашенный профессор юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова – ч. I гл. III § 2; ч. II гл. VI § 2.
Головко Леонид Витальевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова – ч. I гл. II § 2; ч. II гл. I § 2, гл. III § 2.
Дюбрёй Шарль-Андре, профессор Школы права Университета Клермон-Овернь – ч. I гл. I § 1; ч. II гл. VI § 1.
Жантэн Франк, председатель Торгового суда г. Парижа (в отставке) – ч. II гл. III § 1.
Маженди Жан-Клод, председатель Апелляционного суда г. Парижа (в отставке) – ч. I гл. V § 1; ч. II гл. V § 2.
Матьё Бертран, профессор Школы права Университета Париж I Пантеон-Сорбонна, директор Центра конституционно-правовых исследований Института юридических и философских наук Сорбонны, член Высшего совета магистратуры в 2011–2015 гг. – ч. I гл. II § 1; ч. II гл. IV § 1.
Михеенкова Мария Андреевна, кандидат юридических наук, ассистент кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова – ч. I гл. IV § 2; ч. II гл. II § 2.
Пиюк Алексей Валерьевич, доктор юридических наук, председатель Мегионского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – ч. I гл. V § 2; ч. II гл. V § 3.
Романов Станислав Владимирович, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова – ч. I гл. I § 2; ч. II гл. IV § 2.
Руссо Доминик, профессор Школы права Университета Париж I Пантеон-Сорбонна, директор Института юридических и философских наук Сорбонны, член Высшего совета магистратуры в 2002–2006 гг. – ч. II гл. V § 1.
Рэйсёгье Кристиан, первый генеральный адвокат-прокурор при Кассационном суде Франции (в отставке), член Высшего совета магистратуры в 2011–2015 гг. – ч. I гл. IV § 1; ч. II гл. I § 1.
Фонтэн Люк, председатель следственной палаты Апелляционного суда г. Лиона, член Высшего совета магистратуры в 2011–2015 гг. – ч. I гл. III § 1; ч. II гл. II § 1.
Предисловие: суд в государстве или суд против государства?
Суждения по поводу места суда в системе организации государственной власти всегда были не слишком внятны и весьма противоречивы, и это ощущение не покидает ни при анализе работ Ш. Монтескье, ни при рассмотрении разнообразных национальных практик в их историческом или современном ракурсе. Суд в государстве или суд против государства? Правосудие как одна из государственных властей или правосудие вне государственной власти? Эти вопросы, еще совсем недавно, казалось бы, лишенные смысла, сегодня становятся предметом ожесточенных дебатов, выходящих за строгие научно-доктринальные рамки и принимающих в разных странах более широкий размах. Мысль о необходимости отделить суд от государства, высказанная одним российским автором сразу после распада СССР[1], в свое время шокировала многие умы. Сейчас эта мысль становится все более распространенной, в частности во Франции[2]. Помимо того национальная и наднациональная судебная практика неуклонно сталкивает лицом к лицу постоянно обороняющую свои позиции политическую власть и шествующую с завоевательной поступью власть судебную.
Если исходить из того, что правосудие представляет собой некую «власть общества»[3], не принадлежащую сфере компетенции государства, то немедленно возникает проблема определения легитимности такого рода власти, поскольку судебная власть всегда находила свое теоретическое обоснование и свой raison d’être в осуществлении одной из государственных функций. Если мы обрежем или хотя бы ослабим «пуповину», связывающую суд с государством, то он просто-напросто окажется в подвешенном состоянии в неких неопределенных отношениях с обществом, которое в свою очередь юридически неуловимо и социологически манипулируемо. В такой ситуации будет оборвана связь суда с реализацией суверенитета в рамках государственного механизма. Не стоит забывать, что демократическая легитимность воплощается именно в государстве. Как отмечал М. Ориу, понятие суверенитета есть «средство, при помощи которого социальная масса призвана принимать общее дело (в смысле res publica. – Л.Г., Б.М.) и участвовать в его реализации»[4]. Разрыв между государством и обществом приведет к необходимости утверждать, что у общества якобы есть «своя юстиция». Тем самым помимо традиционной проблемы независимости судей на горизонте неизбежно появится другая проблема – полной автономии судебной власти, которая должна в таком случае обладать собственной легитимностью, стремясь к чему-то вроде особой формы суверенитета. В таком контексте суд, с одной стороны, находится на гребне движения, стремящегося усилить его институциональную роль, а с другой стороны, становится объектом бесконечных споров о его легитимности, ко всему прочему находясь при этом в состоянии конкуренции с иными способами разрешения правовых споров.
В целях совместного анализа обозначенных проблем и их первоначальной теоретической концептуализации два научных центра – французский (Центр конституционно-правовых исследований Института юридических и философских наук Сорбонны – Университет Париж I Пантеон-Сорбонна) и российский (кафедра уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова) при поддержке франко-российской ассоциации Comitas Gentium France-Russie приняли решение о создании единой научно-исследовательской группы, состоящей из ученых и судей двух стран. Исследование было направлено не столько на изучение сравнительно-правовых проблем как таковых, сколько на совместный анализ феномена, выходящего за границы французского или российского права в строгом смысле, имея в виду то напряжение, которое испытывает государство в части определения места и организации судебной власти.
Прежде всего на начальном этапе проекта было принято решение организовать два круглых стола в обеих странах. Первый круглый стол состоялся 15 декабря 2016 г. в Москве на юридическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова и был посвящен роли суда в государстве. Второй круглый стол прошел 4 апреля 2017 г. в Париже в Школе права Университета Париж I Пантеон-Сорбонна и был посвящен статусу судьи в государстве. Логика предельно ясна: именно роль суда должна определять статус судей.
Опираясь на результаты работы этих двух круглых столов, франко-российская научная группа приступила к написанию на русском и французском языках данной коллективной монографии, которая не сводится к элементарному воспроизведению сделанных докладов в качестве некоего «сборника» и которая одновременно выходит на двух языках в Москве и Париже[5]. Все прозвучавшие на круглых столах устные выступления для целей монографии были существенно переработаны, чтобы, с одной стороны, вписать индивидуальный авторский анализ в общую логику всей работы, а с другой стороны, учесть основную суть дискуссий, сопровождавших в ходе круглых столов каждый доклад. При этом необходимо было сосредоточиться не столько на особенностях французской и российской правовых систем, сколько на универсальных теоретических проблемах организации судебной власти, для обсуждения которых две указанные правовые системы явились лишь точкой отсчета. Заключение в конце монографии, в качестве которого выступает § 2 завершающей главы, представляет собой своего рода итоговые выводы совместного научного анализа.
Таков в общих чертах научный проект, амбициозность которого определяется не только существом обозначенных проблем, но и в равной степени избранной методологией исследования: концептуализировать некоторые тенденции, с одной стороны, опираясь на национальный опыт, но с другой – одновременно пытаясь полностью преодолеть национальные границы, не входя при этом в полной мере в область сравнительного правоведения в традиционном его понимании. Остается надеяться, что читатели найдут здесь для себя материал для размышлений, позволяющий в том числе освободиться от некоторых стереотипов. Исследование, преодолевающее географические границы и границы правовых систем, в этом смысле весьма плодотворно. Оно дает возможность абстрагироваться от различий, не игнорируя их при этом, чтобы обнаружить общие проблемы и, быть может, общие пути их решения.
Л.В. Головко и Б. Матьё
Часть I
Роль суда в государстве
Глава I
Концептуальные подходы к организации судебной системы
§ 1. Судебная система через призму дуализма
Французский судебно-юрисдикционный дуализм выглядит сегодня в глазах большинства авторов как явление, которое вроде бы немыслимо ставить под сомнение[6]. Продукт истории, закрепленный недавно в Конституции Франции, этот дуализм якобы окончательно стал частью французского юридического пейзажа и никакие сомнения в его отношении, казалось бы, более невозможны[7].
В такой ситуации было бы, наверное, совершенно бесперспективно выступать за упразднение административных судов и создание единой судебной системы как залога простоты и эффективности французского правосудия, хотя в прошлом такие предложения звучали и иногда их можно еще услышать и сегодня[8].
Как бы то ни было, иногда приходится сталкиваться с весьма острой критикой системы, предусматривающей существование специального административного судьи. Последнего регулярно и иногда справедливо выводят на первый план и критикуют за реальные или воображаемые договоренности с государственной властью – с администрацией, которую он призван контролировать. Находится немало аргументов – как старых, так и более свежих, чтобы поставить под сомнение беспристрастность административной юстиции, доверенной судье, который отделен от ординарных судей, разрешающих споры между гражданами, и над которым стоит Государственный совет Франции, в чьи обязанности также входит консультирование правительства[9].
Но целью этих предварительных замечаний является не борьба за упразднение или сохранение административных судов. Здесь речь идет скорее о том, чтобы подчеркнуть тот факт, что дуализм судебных органов во Франции, каким бы совершенным он ни казался, вызывает тем не менее немалое количество проблем для тяжущихся, в силу чего, несмотря на всю свою возможную продуманность, от совершенства он еще на самом деле далек.
Прежде чем подробно остановиться на этих двух моментах, представляется необходимым напомнить о некоторых причинах установления французского судебно-юрисдикционного дуализма, его сегодняшнем состоянии и трудностях, которые с ним связаны.
Французские юристы сходятся во мнении, что создание административной юстиции, отличной от юстиции ординарной, относится к Великой французской революции 1789 г., когда революционеры решили изъять споры, в которых участвует администрация, из компетенции судов[10]. Законами от 16 и 24 августа 1790 г., а затем Декретом от 2 сентября 1794 г. революционеры запретили судьям выносить решения по актам администрации. Начиная с этого момента и в течение долгого периода, который охватил весь XIX в., стала складываться автономная административная юстиция, уполномоченная рассматривать споры с участием администрации. Будучи сначала доверена самой администрации с помощью механизма, который называют «системой министра-судьи», а затем передана специальной секции Государственного совета Франции, административная юстиция институционально обособилась от действующей администрации только после 1872 г. В результате этого сегодня и сосуществуют две системы судов: с одной стороны, суды общей юрисдикции, которые рассматривают преимущественно споры между частными лицами или предприятиями, и, с другой стороны, административные суды, которые уполномочены рассматривать споры с участием администрации, действующей в качестве государственной власти, а не простого предприятия или частного лица.
Обе системы судов структурированы похожим образом: суды первой инстанции (трибуналы малой и большой инстанций; административный трибунал), апелляционные суды (апелляционные суды; административные апелляционные суды), кассационные суды (Кассационный суд Франции; Государственный совет Франции). Эта схема, безусловно, упрощена, так как существуют еще специализированные суды, относящиеся либо к системе судов общей юрисдикции, либо к системе административных судов, но в такие детали мы здесь вдаваться не будем.
Помимо этого Конституция Франции от 4 октября 1958 г. учредила Конституционный совет Франции, в обязанности которого главным образом входят контроль за конституционностью законов, а также судебное рассмотрение избирательных споров. Природа и задачи Конституционного совета Франции превращают его в объект права, который сложно квалифицировать. Примечательно, что только он компетентен проверять соответствие принятых парламентом Франции законов Конституции Франции либо до их вступления в силу, либо после их вступления в силу посредством механизма, который называют «приоритетным вопросом конституционности» и который был установлен в результате конституционной реформы 23 июля 2008 г.[11] Конституция Франции ко всему прочему предусматривает, что решения Конституционного совета Франции обязательны к исполнению всеми органами государственной власти, включая в принципе судей судов общей юрисдикции и административных судей[12]. Напомнив эти несколько фактов, теперь необходимо задать вопрос: почему французский судебно-юрисдикционный дуализм может выглядеть в некоторых аспектах столь концептуально завершенным, даже тонким? Какая-то часть ответа может быть получена, если мы рассмотрим одну из ключевых проблем, с которой сталкивается любой тяжущийся: разграничение компетенции между административными судами и судами общей юрисдикции. Заметим вскользь, что проблема разграничения компетенции присуща далеко не только сфере судопроизводства. На самом деле иногда кажется, что это вообще какая-то неизлечимая болезнь Франции, симптомом которой является хроническое неумение решать подобные вопросы, в частности, когда речь идет о регулировании взаимоотношений между государством и нижестоящими органами. Пример разграничения компетенции между государством и административно-территориальными образованиями прекрасно это иллюстрирует, так как законодателю, несмотря на череду реформ с начала 80-х гг. XX в., до сих пор не удалось найти здесь удовлетворительного решения.
Почему во Франции существует такая сложность? Вопрос, конечно же, не беспочвенный, особенно с точки зрения иностранного наблюдателя[13], который вполне мог бы подумать, что все споры с участием администрации рассматриваются административными судами, в то время как все споры между индивидами или предприятиями – судами общей юрисдикции. Однако отнюдь не такое решение превалирует во Франции, так как позитивное право основывается на материально-правовом дуализме, который далеко не полностью совпадает с судебно-юрисдикционным дуализмом[14].
Действительно, деятельность государственных органов подчиняется то частному праву и относится к компетенции судов общей юрисдикции, когда они действуют в тех же условиях, что и частные лица или предприятия[15], то публичному праву и относится к компетенции административных судов, когда они действуют в рамках реализации функций публичной (государственной) службы и осуществляют полномочия публичной власти[16]. Однако граница между этими двумя ситуациями иногда настолько тонка, что человеку оказывается очень сложно определить, в какой суд ему надо обратиться с иском в случае возникновения спора с администрацией. Именно так получается, допустим, в случае возникновения спора между публичной службой и обращающимися к ней пользователями: исходя из характера деятельности, о которой идет речь, спор может разрешаться либо административным судом, либо судом общей юрисдикции[17].
В такой ситуации понятна чрезвычайная важность того, что люди, обращающиеся к правосудию, должны иметь возможность легко и быстро определить компетентного судью для разрешения своего спора. Только тогда будут обеспечены право на доступ к судье и право на рассмотрение своего иска или жалобы в разумный срок.
Во французском праве, к счастью, существует несколько вариантов решения этой ключевой проблемы, связанной с обеспечением права на эффективную судебную защиту[18].
Прежде всего текст Конституции Франции содержит несколько уточнений, касающихся исключительной компетенции судов общей юрисдикции, включая дела в отношении администрации. Это относится к ст. 66 Конституции, в силу которой именно суды общей юрисдикции по общему принципу являются хранителями индивидуальных свобод[19]. В первую очередь на ее основании, хотя и не только, была разработана теория «вопиющего произвола», в соответствии с которой исключительно суд общей юрисдикции должен рассматривать споры, где администрации ставится в вину посягательство на индивидуальную свободу при помощи мер, очевидно не входящих в круг принадлежащих ей полномочий[20].
В том же духе Конституционный совет уточнил, что принцип, имеющий конституционную ценность, гарантирует административному судье обязательный набор компетенции в части отмены решений, принятых государственными органами, когда они осуществляют полномочия публичной власти. Действительно, в своем решении от 23 января 1987 г. конституционная юрисдикция пришла к выводу, ссылаясь на французскую концепцию разделения властей, что именно административный судья должен отменять или изменять «решения, принятые органами исполнительной власти при осуществлении полномочий публичной власти, а также их агентами, административно-территориальными образованиями Республики или государственными учреждениями, подвластными и подконтрольными им».
Кроме того, нельзя не отметить и постоянное вмешательство законодателя, который старается прояснять некоторые вопросы и уточнять соответствующую сферу компетенции судов общей юрисдикции и административных судов, дабы упростить задачу тяжущимся. Исходя из этого он устанавливает «блоки компетенции» в пользу одной или другой судебно-юрисдикционной системы. Мы знаем, например, что споры, касающиеся общественных работ[21] или занятия общественного пространства[22], должны рассматриваться в административных судах.
Конституционный совет Франции в свою очередь допускает, что законодатель вправе отходить от конституционных норм о разграничении судебно-юрисдикционных полномочий в целях «лучшего отправления правосудия». Речь в данном случае идет о том, что парламент Франции может объединить в рамках одной судебно-юрисдикционной системы всю совокупность споров, которые в принципе должны были бы быть распределены между судами общей юрисдикции и административными судами. Чтобы упростить положение истцов и помочь им избежать риска ошибок при выборе компетентного судьи, закон во многих случаях доверил либо судам общей юрисдикции, либо административным судам рассмотрение всех дел определенной категории, которые раньше попеременно в зависимости от разных критериев относились к подсудности обоих этих видов судов. В результате стали возникать ситуации, когда по спору с участием администрации, действующей в рамках своих традиционных полномочий, компетентным мог оказаться судья общей юрисдикции. Примерами этому являются споры, связанные с дорожно-транспортными происшествиями[23], несчастными случаями в школе[24] или споры в сфере конкуренции[25].
Наконец, когда нормативно-правовые акты ничего не предусматривают, сами судьи должны определить соответствующую сферу своей компетенции. Так, например, в части компетенции административных судов Государственный совет Франции и Трибунал по конфликтам, руководствуясь научными трудами, постарались выделить некое количество критериев, роль и важность которых со временем менялись. Говоря схематично, двумя фундаментальными критериями, каждый из которых на протяжении многих лет либо становился исключительным, либо всего лишь дополнял другой, являются критерий публичной службы и критерий публичной власти[26]. Важность и того и другого то уменьшалась, то увеличивалась в зависимости от исторического периода и предмета регулирования.
Помимо этого начиная с конца XIX в. практика как административных судов, так и судов общей юрисдикции была направлена на то, чтобы определить четкие границы компетенции каждой из судебно-юрисдикционных систем. Но в такой ситуации периодически неизбежно возникали некоторые «бои за территорию», провоцируя феномен подъемов и спадов, безусловно, крайне негативно сказывающийся на тяжущихся, которые вынуждены претерпевать изменения подходов в судебной практике, иногда противоречивые или противоположные.
Это особенно ярко проявилось в случае с теорией «вопиющего произвола». Изначально задуманная для того, чтобы дать возможность судье общей юрисдикции пресекать действия администрации в ситуации, когда она чрезвычайно грубо нарушает закон, посягая на право собственности или на одну из фундаментальных свобод, данная теория, отступающая от общих принципов разделения полномочий между административно-судебными и судебными органами, стала подвергаться чрезмерно широкому толкованию и крайне экспансионистскому применению со стороны судов общей юрисдикции, которые, казалось, решили завоевать новую область компетенции, основанную на ст. 66 Конституции Франции. Новое определение, данное этому понятию в 2013 г. Трибуналом по конфликтам, позволило покончить с подобным положением дел.
Таким образом, как можно заметить, невзирая на различные варианты решения проблемы, существующие во французском праве, система распределения судебно-юрисдикционных полномочий между административными судами и судами общей юрисдикции функционирует неидеально. Эта и так небезупречная ситуация становится ко всему прочему еще более тревожной в двух отличающихся друг от друга случаях.
Встречаются ситуации, когда перед судьей возникает вопрос законности, решение которого необходимо для разрешения спора, но который относится к компетенции другой судебно-юрисдикционной системы. Речь идет, например, о случае, когда судья общей юрисдикции, рассматривающий неуголовное дело[27], сталкивается с проблемой законности административного акта по делу, которое он принял к производству в полном соответствии с правилами подсудности. В данной ситуации, несмотря на связанное с этим иногда очень значительное затягивание срока судопроизводства, первый судья должен приостановить производство по делу и направить запрос другому судье для решения возникшего вопроса. Эта процессуальная форма направления дела из одного суда в другой известна под наименованием «процедура разрешения преюдициальных вопросов»[28]. Иными словами, мы сталкиваемся с тем, что судья общей юрисдикции вынужден обращаться за решением подобных вопросов к административному судье (или наоборот), дабы иметь возможность разрешить спор после того, как он получит ответ административного судьи.
Встречаются ситуации, когда между судьей общей юрисдикции и административным судьей возникает спор либо потому, что оба считают себя компетентными рассматривать то или иное дело (спор о подсудности в позитивном смысле), либо потому, что ни один из них не считает себя компетентным его рассматривать (спор о подсудности в негативном смысле). В последнем случае решение необходимо найти еще и для того, чтобы избежать ситуации отказа в правосудии. Именно для преодоления такого рода проблем и существует Трибунал по конфликтам, окончательно учрежденный Законом от 24 мая 1872 г. Он состоит из равного количества членов Кассационного суда Франции и Государственного совета Франции. Трибунал по конфликтам призван определять, кто должен рассматривать соответствующее дело в случае возникновения спора о подсудности между судом общей юрисдикции и административным судом. Решения Трибунала по конфликтам, таким образом, крайне важны, так как они позволяют регулировать судебно-юрисдикционный дуализм и дают возможность тяжущимся добиваться рассмотрения их дела судом без риска отказа в правосудии. Тем не менее само существование Трибунала по конфликтам и регулярность, с которой он вынужден рассматривать соответствующие споры, свидетельствуют о дисфункциях судебной системы в ущерб гражданам, причем единственной причиной данных дисфункций является исключительно судебно-юрисдикционный дуализм.









