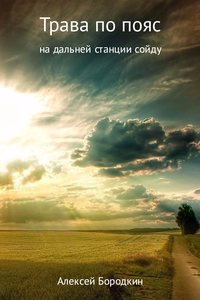Полная версия
Чувства встречного направления

Часть 1
Обдумываю этот рассказ и понимаю, что он будет длинным и путаным. Так происходит всегда, когда повествование наполнено реальными людьми и событиями: сюжетную нить вихляет по сторонам, и различные обстоятельства норовят её оборвать в самом неподходящем месте… Вы обращали внимание, как происходит дружеская беседа? Она начинается с одного, вскорости сбивается, стремительно перескакивает на иной волнующий предмет. И может окончиться неизвестно чем… и где… и глубоко за полночь. Особенно, если друзья долгое время находились в разлуке. Так и река в долине змеится, крутится, свивает петли, и очень часто невозможно определить в каком направлении движутся соседние русла.
От себя (как автор) обещаю максимальную искренность и свободу от выдумок…
…если, конечно, такое обязательство можно принять достоинством для художественной литературы.
В июне месяце сего, две тысячи восемнадцатого года удалось мне побывать во Владивостоке.
Скромное определение "побывать" едва ли может описать (или хоть сколь-нибудь охарактеризовать) моё двухнедельное житьё-бытьё. Тем более оно (слово) не в состоянии пояснить моих взаимоотношений с этим Городом.
Поселился я в шикарном недостроенном отеле. Его название… вот уже предчувствую первое отклонение от сюжетной линии… при этом, игнорировать название "корчмы" категорически невозможно. Оно достойно нескольких слов. Отель назывался "Хоят"… или "Хуят"… или даже "Хуйяк". Точнее сказать затрудняюсь.
На заржавленном металлическом "камне" (у парадного подъезда) фигурировало официальное наименование отеля, однако (во-первых) оно было набрано латиницей, а (во-вторых) я всякий раз возвращался мимо этого "камня на распутье" поздно вечером в сумерках (когда короткую Аллею вдоль моря перекрывали воротами), и не стремился доискаться до верного прочтения.
И даже хуже…
Мне вспоминались вьетнамские студенты, вместе с которыми мы грызли гранит науки в Политехническом институте и делили пятый этаж общежития по улице Державина.
Вьетнамцы оставили в моей памяти две зарубки. Первая – обонятельная. Они варили и жарили солёную тихоокеанскую селёдку (предпочитая гигантскую олюторскую). Будь моя воля, я применял бы эту методу для воздействия на особо опасных преступников: десять минут у кастрюльки с рыбным варевом, и чистосердечное признание неминуемо оказывается в руках правосудия. Мы (русские студенты) дрались за чистоту воздуха, но победить не могли. В конце месяца, перед стипендией, в моменты тотального безденежья в наших рядах появлялись коллаборационисты и перебежчики.
Вторая зарубка, это Вадик Мин (точные паспортные данные утрачены моей памятью, извините). Вадик значительно отставал по математике (мы говорим о высшей математике, на секундочку), а потому назревал вопрос об его отчислении.
Жизнь в общежитии имела свои правила и законы – не стану на них останавливаться, ибо тогда сюжетная ниточка однозначно оборвётся – скажу только, что после непродолжительных скитаний Вадик прибился к нашей комнате, и я лично давал ему уроки высшей математики.
Естественно, всё это происходило в юношеской кутерьме, между попытками заработать, поучиться, сходить в спортзал и приготовить ужин (… хотя бы пожрать на халяву отварной селёдки). О девушках я даже не упоминаю, девушки находились за гранью доступности. Посему мои уроки были: кратки, практичны, содержательны. Речь шла (насколько я помню) о взятии интегралов.
Я научил Вадика всему, что умел сам.
И вот экзамен. Студент международный, а значит, присутствует незначительная комиссия. Выходит мой протеже – Вадик Мин – и начинает решать.
С чего начинается решение? Правильно – с сокращений. Вадик подходит к доске, берёт мел и начинает сокращать "куски" из числителя с фрагментами из знаменателя. И каждое движение мела он сопровождает характерным звуком:
"Хуяк-хуяк… хуяк-хуяк…"
…Вне сомнений, это была моя вина. И (ещё более очевидно) во время уроков я подбирал из своего лексикона наиболее выразительное слово. Образом и символом старался донести до ученика физический смысл сокращений… но я совсем выпустил из виду, что для вьетнамца весь русский язык – чистая монета.
Среди комиссионеров возникло замешательство, ибо словестное сопровождение невозможно было признать цензурным. Женщины покраснели и спрятали глаза. Смешливая секретарша из деканата прыснула в ридикюль. Вьетнамцы сидели с замёрзшими лицами.
А Вадик – шпарил. Он был на драйве (как теперь говорят).
Опуская неинтересные подробности, скажу, что моего ученика не отчислили, и даже назначили ему какую-то поощрительную стипендию с формулировкой "за упорство и настойчивость в преодолении языковых барьеров". На кафедре высшей математики появилась новая байка, а я (ваш покорный слуга)… я замер на мгновение перед названием отеля и медленно побрёл вперёд – "преданья старины глубокой" вспыхнули в памяти с невероятной силой. И общага, и друзья…
"А ведь я имел с Вадиком дуэль на кулаках… из-за женщины… да. Моей первой пассией была вьетнамка, его сестра".
Отель.
Он вполне сформировался к моему заселению. Бетонный каркас, крыша, огненно-синее с отливом стекло во все четырнадцать этажей, парковка, асфальт, подъезды – внешне всё выглядело полным порядком, исключая – понятное дело – бетонные ограничительные блоки, строительный мусор и шлагбаум с красным предупредительным фонарём. Во многих номерах не хватало дверей, и сантехника присутствовала схематично. В здании отсутствовало системное электричество, что составляло особые неудобства для ведения быта.
Впрочем… именно отсутствие коммунальных услуг подарило мне наибольшее наслаждение. Дело в том, что отель удивительно расположен: его построили на "пятачке", выдвинутом прямо в воду, в прибой, в океан. Он нависает над Амурским заливом, как чайка.
Ночами время останавливалось, пространство разрывалось, и я проникал в особый Мир – в прогал Вселенной. Подходил к зеркальной стене и смотрел… смотрел…
Океан ночью – это огни. Огни и отражения. Шелест волн, и прикосновение к бесконечности. Удивительно, но не вы касаетесь бесконечности, а она обнимает вас. По своей воле.
Благодаря безлюдию (простите мне такое слово) недостроенного отеля я в достатке имел тишину, и океан, и трепещущие дорожки отражений – в бухте стоял рыболовецкий траулер.
Даже отсутствие ковров в холле не представлялось проблемой – по ним некому было ходить.
Павел Алексеевич Бабочкин обитал на первом этаже, у поста охраны (своего рабочего места). Поэтичности ради, я называл пост "заставой" или "кордоном".
Дядя Паша (он же Павел Алексеевич, он же Алексеич, он же Заполох, он же Бабочка, он же Бо) был мне знаком ещё по институту. В годы моего студенчества он состоял в хозяйственной должности при кафедре Автоматики (моей родной), имел доступ к запасам радиодеталей (ерунда) и складу хозяйственного мыла (существенно). Ныне служил в охране.
Алексеич… как-то неловко называть его по отчеству; для меня он был и остаётся Пашей Бо – так называли его студенты. Дело в том, что Павел Алексеевич слегка заикался, и подменял трудный слог "ба" на лёгкий "бо", выговаривая свою фамилию: "Бобочкин". Студенты удалили лишнее, оставив основное.
Паша Бо всю жизнь преодолевал сопротивление окружающей среды; он был электриком по самой своей сути: Жизнь ненавидела его и строила козни, Паша протекал сквозь трудности, напоминая электрический ток в проводнике. Даже рождение не обошлось без происшествия. Рассказывают, что акушерка уронила юного Пашу… но это давняя история. И не моя.
В глаза бросалась Пашина борода (если говорить о внешности). Она росла прямо из шеи, топорщилась, напоминала чёрную жесткую щётку.
"Пробовал сбривать, получается ещё хуже,– жаловался Бабочкин, перевирая Чехова: – Трагедия всей моей жизни! Я целомудренен, как Венера Милосская, а выгляжу, точно пятый день пью запоем. – Выдерживал паузу и добавлял: – А ведь я капли в рот не употребляю…"
И качал головой.
Я не мог понять, о чём Паша Бо сожалеет? Что не использует данную Природой внешность по прямому назначению? Или что внешность его груба?
Действительно, Павел Алексеевич выглядел запойным алкоголиком, при том, что являлся "носителем тонких душевных струн" – его определение. Кроме того, Павел Бо был жесточайше честен, и мыла студентам не выдавал ни под каким предлогом.
Это он удружил мне проживание в недостроенном отеле…
Случилось вот как: я позвонил, проговорился, что собираюсь приехать, Паша всполошился, точно перепуганная курица (его обычная реакция на всякую новость), и заверил, что устроит меня в лучшем виде:
"Будешь жить в королевском номере, это я беру на себя. У меня завелись кое-какие связи, ты даже не сомневайся. В этом тебя поселю… как его… в пентхаусе".
Я заподозрил неладное, но упредительных мер не предпринял. Оказаться в недостроенном отеле выходило за границы моего воображения.
Утром я покидал гостиницу, озирался по сторонам, стараясь запомнить пейзаж. Куцая будочка "заставы", завёрнутая в гофрированную оцинковку, шлагбаум с немужественным ниспадающим изгибом стрелы и даже циничные бетонные блоки меня не расстраивали, напротив, казались чем-то диковинным, иноземным. Куст цветущей сирени вдохновлял. Я подходил, подтягивал к себе ветку и вдыхал (до желудка вбирая в себя воздух), потом застёгивал ветровку, салютовал вневедомственному "хозяину" и уходил, знаками давая понять, что к обеду не вернусь и ждать меня бесполезно.
Каждое утро Паша Бо смертельно расстраивался, сплёвывал и опускал к земле средний палец левой руки. Жест получался настолько глубокомысленным, что последующие десять минут я передвигался по местности под его философским влиянием.
"В нём сквозит что-то древнеримское… гладиаторское, – рассуждая я. – Ринг, Колизей… когда гладиатор бился отважно, однако проигрывал, патриции и плебеи салютовали большими пальцами к небу, даруя бойцу жизнь. Если гладиатор бился плохо, его убивали, разворачивая большой палец к земле. Вероятно, существовала третья особая категория гладиаторов: они сражались настолько плохо, что не заслуживали смерти. В таком случае, зрители опускали к земле средний палец, как бы говоря: пошел ты в ж… куда-нибудь… и в этом присутствует глубокий смысл: бродит же по земле Вечный Жид".
Львиная доля моих городских "приключений" произошла днём, и мне не хочется на них останавливаться (кому интересно читать мемуары?). Посему давайте пропустим светлое время суток и сразу переместимся ко времени тёмному – таинственному и непредсказуемому, как медицина Зигмунда Фрейда.
…да-да, не удивляйтесь. Великий психоаналитик отличался экстраординарностью методов лечения. Например, он видел будущее медицины за кокаином и прописывал кокаиновые шарики обильно, как леденцы. Что характерно: многих они спасали… буквально вытаскивали с того света. Поневоле задумаешься о преимуществе пневмы над гуморой.
Впрочем, я опять уклоняюсь.
Встреча, о которой мне хочется рассказать, произошла вечером, на Аллее. Для читателей, не бывавших во Владивостоке, сделаю небольшое топографическое пояснение:
В самом центре города,
вдоль Спортивной гавани (это кусочек Амурского залива),
в пяти шагах от кромки воды (без всяческих гипербол),
параллельно улице "Набережной"
имеет место быть… проход… я не знаю, или лазейка, или тракт – именуйте, как угодно.
Лично я называл этот асфальтированный фрагмент Евразийского континента Аллеей. Просто Аллеей, безо всякого дополнительного обременения.
Так вот, на Аллее сгустилось всё самое сочное и яркое в Городе. (На мой, естественно, вкус.)
А именно.
Во-первых, здесь паслись стада непуганых диких китайцев. Примерно, как бизоны в пампасах. Обвал рубля сделал отдых в Приморье чрезвычайно привлекательным для китайских товарищей.
Во-вторых, в "саванну у кромки моря" стекались охотницы на диких китайцев – представительницы древнейшей и изумительно порочной профессии.
…Вообще-то… если позволите, на секундочку ЭТО ДЕЛО зародилось здесь не сегодня и не сейчас. В двух шагах от Аллеи расположена "Миллионка" – квартал первобытный, покрытый копотью керосинок и сажей леденящих душу рассказов. Квартал династии "Мин" с его джонками, петардами-салютами, конусами бамбуковых шляп, драконами, приготовлением летучих мышей в соевом соусе и грошовыми гибкими проститутками в утвердительных позах.
Фантазия моя разгоралась, и я представлял, как любовь происходила здесь раньше, когда не сдавали комнат на часы. Она была ещё стремительней, ещё яростней и неудержимей, как электричка в сильный снегопад.
/здесь я немного приврал, извините. И квартал, и проститутки, и дивные пирожные (клянусь! я лакомился!) существуют в реальности. Только Миллионка родом из 19 века. До этого её не существовало.
Кроме порочных удовольствий Аллея предлагала ряд вполне гуманных и даже эстетических развлечений. Тут прогуливались молодые пары, плескался океан (в своей равнодушной тревоге), рыбаки забрасывали удочки, чайки опускались на воду… играли музыку художники и рисовали портреты музыканты. Изгибались в затейливых позах непокорные у-шуисты, а любители (и сочувствующие физкультуре) старики перебрасывались волейбольным мячом. Через сетку.
Кроме того, имела место быть дивная едальня под названием "Чифань-Дао".
Одно только звукосочетание вызывает аппетит, не правда ли? Китайский язык упоительно музыкален; воображению моментально рисуется женщина в длинном шелковом кимоно… Чио Чио Сан (плевать, что она японка): "О, чифань! Моя волшебная чифань, где ты теперь?"
Однажды (мы вплотную приближаемся к сердцу повествования) я возвращался "домой" довольно поздно. Брёл Аллеей, неспешно цокая копытами (каблуки новых замшевых туфлей помечали моё присутствие характерным звуком). Устал, а потому грустил – уставший человек склонен к мерехлюндии и лёгкому нытью. Однако я грустил светло, по-весеннему, с настроем прожить это лето счастливо (хотя бы попытаться). Бодрости мне прибавляло самое искреннее человеческое чувство – чувство голода. Я искренно испытывал его последние полчаса.
Притормозил у "Чифани". Задумался.
Не в моих правилах употреблять фаст-фуд, однако обстоятельства вынуждали пойти на риск. Причина в том, что третьи сутки подряд Паша Бо варил сырую морскую капусту. Совершал кулинарный "акт вандализма" прямо на рабочем месте, в отеле, при исполнении служебных обязанностей. Вонь загнала меня на верхние этажи, на чердак, в маленькую будку, предназначенную для большого лифта, однако и там спасения невозможно было сыскать.
Притом, что я не мог возражать. Не имел морального права.
Сказать откровенно, после студенческой вьетнамской селёдки я не думал, что меня можно удивить. Тем более, загнать в угол. Однако морской капусте это удалось.
Павел Алексеевич Бабочкин страдал артритом. В сырую погоду его суставы распухали, скрипели, стонали и мешали влачить оптимистическое существование. Во Владивостокской традиции последних лет стало модно лечиться у китайских врачей. Народный целитель из Поднебесной (или наш проходимец, загримированный под китайца) посоветовал Паше употреблять отварную морскую капусту. Поселил надежду, мерзавец.
Паша добывал мотки склизкой плоти (в исходном сыром виде морская капуста значительно отличается от привычного кулинарного продукта) у моряков рыболовецких судов. Рыбацкие шхуны регулярно швартуются у пристани, сгружают креветку, сельдь и камбалу.
…вот местная камбала достойна всяческого восхищения! Нет на Белом Свете рыбы вкуснее, нежнее, жирнее и аппетитнее Владивостокской камбалы. Так уверял профессор Преображенский.
Однако рыбная тема слишком уклоняется от линии повествования и заведёт нас далеко. Отложим её до срока.
Пустые коридоры отеля наполнялись смердящими призраками, тенями ещё не умерших постояльцев и немилосердными запахами морской капусты. Персонажи мультиков Миядзаки оживали.
И мне не хотелось возвращаться в гостиницу.
"Кой чёрт я согласился? – думал я с самоедски-отчаянным настроением. – В соседней гостинице есть прекрасные номера… и стоят они не дорого… плюнуть? переметнуться? Паша расстроится. Возражать не станет, но обидится до глубины своих… бархатных струн или, как он там утверждает?"
Тем временем, сгустились сумерки.
Я приблизился к павильону "Чифань-Дао", заказал лапшу в красивой квадратной коробочке. Стенки коробочки украшали собой драконы. Приветливые такие, зубастые.
Пока лапшу приготавливали, купил в соседнем павильоне сосуд с пивом (без малейших драконов). Махнул симпатичной девушке Алёне (мы познакомились, если память меня не подводит… в понедельник). Она профессионально осведомилась: "Быть может, сегодня, профессор? Проявите себя с лучшей стороны!" Я вывернул карманы, демонстрируя крайнюю степень неплатёжеспособности. Мадемуазель хмыкнула и ответила, что подаёт только на Пасху: "Или перед Рождеством. – Улыбнулась: – Дотяните?"
"Тебе несвойственен гуманизм! – упрекнул я. – Отступи от циничных капиталистических принципов и проведёшь ночь в лучшем номере отеля!"
Я попытался "ловить" на Пашину удочку, предлагая "Хоят" в качестве разменной монеты. Однако уличную девушку трудно провести. Алёна пожала плечами, и мы разошлись, чтобы повторить разговор завтра (за незначительными вариациями).
Лапша с курицей была готова. Выкрикнули мой номер, я подошел, принял коробочку. Уселся на скамейке/парапете в десяти шагах от едальни, развернулся лицом к океану.
Знаете, приятно есть лапшу, повернувшись лицом к Океану. Местные жители и аборигены из Поднебесной не ухватывают кайфа, но я почувствовал его моментально. И даже больше: поймал себя на мысли, что в тёмной комнате недостроенного отеля было бы ещё… мистичнее. Да-да. Именно так. Меня самого удивило мимолётное (и явно порочное) настроение. В нём присутствовало нечто странное и страшное одновременно.
Вонь морской капусты (я уже говорил) загнала меня на верхний этаж в дальний конец коридора. Туда я перетащил матрас, узбекское стеганое одеяло, кипятильник, баночку из-под огурцов для кипячения воды и цибик чаю. Лифт предсказуемо не работал – его просто не существовало. На первом этаже вода из крана чуть-чуть бежала (самотёком), на последних этажах её не было в принципе. Систематическое электричество отсутствовало. И всё же… я представил себя у панорамного окна, с коробкой лапши в левой руке, с палочками в правой… над океанской пропастью… как чайка, по имени Джонатан Ливингстон…
Я всегда мечтал попробовать быть чайкой… будто кто-то из живущих не мечтал?..
– Забавно наблюдать за человеческими детёнышами.
Мысли опрокинулись:
– Что, простите?
– Я говорю, забавно наблюдать за человеческими детёнышами.
Механически я согласился ещё раз, кивнул:
– Вы правы. – Потом задумался, отступил на полшага в своём согласии, сделал допущение: – Вероятно.
Чайкой я не стал (не в этот раз). Пришлось возвращать себя действительности.
Вокруг ничего не изменилось, я по-прежнему сидел у кромки воды, рядом, на… атрибутах (забыл, как называются эти гнутые металлические цветастые приспособления) лазали дети. Мадам (очевидно их мать) во все глаза следила за ребятами. На деревянном парапете, сбоку от меня, расположился незнакомый гражданин.
Вероятно, в моём взгляде что-то возникло… что-то тревожное. Гражданин спешно поднял и показал мне коробочку с лапшой (такую-же, как и у меня). Жест должен был успокоить: "Я не извращенец и не насильник. Я нахожусь здесь по скромной естественной нужде. В сущности, я такой же, как ты". Подобным движением демонстрирует служебное удостоверение добрый милиционер.
– Вы очень правы, – проговорил я и сообразил, что в пылу фантазирования, тупо пялился на детишек. По нынешним временам такое деяние не приветствуется. Поощрительная улыбка чужому ребёнку трактуется, как инвазия в личное пространство. Кивок незнакомой молодой девушке карается законом "О сексуальном домогательстве и жесточайших извращениях".
"Интересно, в этом законе присутствует перечень извращений? Было бы любопытно ознакомиться со списком. Хотя бы краем глаза прикинуть, как много я ещё не познал в жизни".
– Удивительно, что вы назвали детей…
– Человеческими детёнышами? – подхватил гражданин и приблизился на некоторое расстояние (перенёс седалище на полкорпуса). – Но ведь, мы остаёмся животными, несмотря на цивилизованность. Мы – часть животного мира. Разве нет?
– Вне сомнений, – подтвердил я и заглянул в коробочку. Моя лапша лежала нетронутой, я не успел погрузить в её нежную плоть свои развратные палочки.
– Поэтому игры детей и, скажем… – он почесал у виска, – тигрят, очень похожи.
– Вполне возможно, – признал я и отодвинулся. – Мне сложно судить, у меня мало опыта общения с тигрятами.
Лицо мужчины расправилось: контакт состоялся, и я не отверг его предложения.
Вы спросите, что именно он предлагал? Себя, отвечу я. Притом, в правильном человеческом смысле. Вы скоро сами поймете, о чём речь.
Мужчина носил на плечах большую круглую голову, формой напоминающую яйцо. Негустые опрятные волосы, зачёсанные набок, круглые глаза… хочется сказать с хитринкой, только я не понимаю, что это значит. В глазах отчётливо присутствовала мысль – это очевидно, и они не казались водянистыми (хотя имели светло-серый оттенок). И ещё одна деталь: лицу категорически не хватало очков… такое складывалось ощущение. Плюс мне запомнился вельветовый пиджак тёмно-бордового тона (люблю такие оттенки) и длинные ухоженные пальцы. Я подумал, что такими пальцами удобно держать сигару. Добротную кубинскую сигару. Скажем, Упманн… какие курил Джон Кеннеди.
…Забавное дело: противостояние Личности и Истории. Президент США Джон Фицджеральд "Джек" Кеннеди как-то за ленчем попросил своего секретаря закупить большую партию сигар "Упманн" (естественно, пользуясь служебным положением, иначе какой он президент). А через неделю подписал торговое эмбарго против Кубы…
– У меня большой опыт, – откликнулся мужчина. – Я работаю с детьми. В музыкальной школе. Я преподаю фортепиано.
Он ещё придвинулся (на один квант) и вынул из кармана очки. Я спросил, почему он не носит их постоянно, получил ответ, что без очков у него более располагающий вид. Так ему кажется.
"Как знать", – усомнился я, и процитировал Шекспира:
– Нет ничего под солнцем, добрый друг. Но и в подлунном мире, только тени. Нам кажутся они, Гильермо, милый.
Он растерялся:
– Что, простите?
– Нет, ничего. Мысли вслух, навеянные одиночеством, океаном и назойливым запахом морской капусты. Вы замечали, как противен запах варёной капусты? Особенно на рассвете, когда вы зябните под одеялом. Вам холодно, Вселенная скукоживается до размеров стёганного одеяла, вы втягиваете плечи и пятки, завидуя черепахе, и стараетесь не расплескать даже джоуля тепла… Ведь вы зябнете под одеялом?
Он потряс головой, отрицая моё предположение. Он не зяб под одеялом.
О чём можно говорить с таким человеком? Он потерян для Общества! /шучу
Помолчали.
С горки скатился малыш, мадам объявила, что пора отправляться домой. "Всё же гувернантка, – понял я. – Служит по времени". Подумал, что слишком резко "отшил" преподавателя фортепиано: "Он имел на меня виды…" Пошел на попятную.
Напомнил:
– Вы говорили о музыке. О фортепиано.
В дюжине метров от берега дремала чайка, засунув голову под крыло; она покачивалась на волнах не испытывая морской болезни.
– Тридцать лет я работаю в школе, – проговорил мужчина. – Имею опыт и наблюдения. И сделал некоторые выводы. И даже, – он аккуратно засмеялся, – имею победы личного характера.
– Неужели? – сказал я.
К этому моменту жрать хотелось немилосердно. Проблемы личного характера яйцеголового, а также все трудности мировой фортепианной (и педагогической) индустрии отошли на задний план. Презрев приличия, я приступил к трапезе: погрузил палочки в коробку и ухватил максимальное количество съестного.
Святые угодники!
Лапша тянулась бесконечной вереницей, напоминая порожние вагоны железнодорожного состава. Я старательно втягивал его (состав) в депо (своё нутро), однако, вскорости, пришлось оборвать поток. Висевший у подбородка фрагмент я втянул с характерным звуком: "С-с-у-о-уоп!"
Этот звук – полагаю небезосновательно! – составляет значительную часть удовольствия (хотя немногие респонденты откровенничают, подобно мне).
– Совершенно так, – сказал яйцеголовый. – Я умудрился совершить должностное преступление и получить личную выгоду из служебного положения.
Пришлось уточнить:
– Из положения преподавателя музыки?
– Именно так.
– В муниципальной школе?
– Абсолютно верно.
– Выгоду?
– Да.
Хотелось пошутить: "Вы стырили моток басовых струн и сплели гамак себе на дачу? Или изготовили бронированный корсет в подарок тёще?" Вместо этого я проговорил: