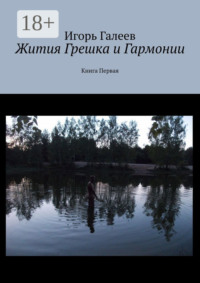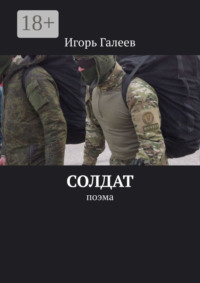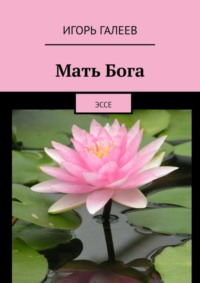Полная версия

Душегуб
Психоэма
Игорь Галеев
Прекрасно то существо,
в котором мы видим жизнь такою,
какова она должна быть по нашим понятиям;
прекрасен тот предмет, который выказывает в себе жизнь или напоминает
нам о жизни.
© Игорь Галеев, 2019
ISBN 978-5-4496-1712-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
1. Впервые
Пусть читатель заранее простит мне стилистическое несовершенство моей затеи. Я не литератор, не люблю писать письма, и лишь в школьные годы упражнялся в любовной лирике – потуги, известные каждому второму соотечественнику со средним образованием. Теперь, впервые взявшись за сочинение художественного толка, я должен заверить, что по-настоящему художественного здесь вы не найдете, так как я буду описывать события, имевшие место в настоящее время в действительной жизни с реально существующими людьми.
Я не стал изменять многие имена и фамилии, решив, что так называемые прототипы действующих лиц психоэмы не станут посылать в неведомое кассационные жалобы на характеристики и выводы покойника. Ну а если некто все-таки захочет настоять на своем – милости прошу! – мы решим любой вопрос на мирном безэмоциональном уровне.
Эмоции всегда, и особенно в юности, предательски подводили меня, дико фонтанируя в неожиданные, неподходящие моменты: и когда я попал в школу, мне пришлось немало потрудиться, выковывая в своем характере редкое (в смысле природного дара) и драгоценное качество – терпимость. Любовь к детворе помогала добиться желаемого, но с неперевоспитуемыми взрослыми оставалось по-прежнему: терплю, скриплю, молчу и вдруг сорвусь – заору мерзким шепотом, размахивая руками, наговорю лишнего.
Много лет я учительствую, пять лет был завучем, десять – директором средней школы, и вроде бы пора научиться сдерживать свои чувства, но, видимо, темперамент неукротим (видимо – потому что я не вправе утверждать наверняка). Доказывал же он мне, что это не совсем так. Но не стоит забегать вперед.
Эта обычная с первого взгляда история началась четыре года назад прекрасным осенним днем. И здесь я просто обязан описать осень тех, мало кому известных мест, описать, не претендуя на оригинальность.
Кстати, я ненароком заметил, что большинство молодых людей того и другого пола называют своим любимым временем года осень. Наверное, оттого что модно слыть эдакой элегической личностью.
А в годы моей подслеповатой молодости, как я припоминаю, к осени относились скорее уважительно, и, я бы сказал, настороженно и практично – все-таки преддверие холодов, непогод, забот о тепле и продовольственных запасах.
Сам я никогда не задумывался, что именно в природе мне по душе. Меня полностью поглощал небольшой отрезок времени – история (мой предмет) развития человечества. В ушедших судьбах и событиях я находил сладостное забвение, отдыхал от суеты и пошлости настоящего, как это делают многие не особо активные люди. Снег, дождь, листва и горизонты являлись естественными атрибутами моего бытия и не вызывали ни грусти, ни восторга.
Впервые природа по-настоящему поразила меня здесь, на Дальнем Востоке, точнее, в небольшом поселке, давным-давно основанном ради рыбного промысла на побережье Охотского моря.
Судьба забросила меня туда, как это всегда бывает, неожиданно. Но все что предшествовало этому – личное, ничтожное, не стоящее внимания. Признаюсь, однако, раз уж начал о себе, что я развелся тогда с женщиной, прожившей со мной шестнадцать лет в одном небольшом подмосковном городке. Развелся мирно, оставив ей нажитое, забрав с собой самое необходимое.
Надо сказать, уехал я оттуда не только из-за развода. Была и другая, основная причина, заставившая меня покинуть насиженное место, и об этом я еще обмолвлюсь. Мы часто говорили с ним о моих «профессиональных» неприятностях, начавшихся еще там, в Подмосковье, и продолжающихся по сей день теперь уже для меня одного – безвредного и бессильного… Если бы я был его сверстником!
Вспоминаю утро, когда я впервые приехал в поселок. Примечательно, что это было осенью. Мне теперь хочется думать, что и то мое утро было такое же прекрасное и необычайное, такое же солнечное и безветренное, как и его утро спустя нудных шесть лет небытия…
Солнце отгуливало свои последние полнокровные денечки. Разноцветная листва весело смеялась его лучам, небу, уснувшему заливу, казалось, сама бесконечность в этот миг осмысленно дышала жизнью и песней, песней свободы и любви. Не объяснить… Черт знает, что же было необычайного в этом уголке земного шара!
Он говорил о непостоянстве природы этих мест, о ее непреклонном стремлении меняться для радости. Да, именно для радости, так он говорил.
По таким местам стоит бродить одному, и тогда этот целомудренный мир растений, от последней несмышленой травинки до огромной изломанной зимними буранами пихты, подарит вам незабываемые минуты насыщения жизнью и первозданным покоем. С «каким наслаждением можно глотать осенний перебродивший воздух! Сколько спелых дарственных запахов! Богатый урожай вечности…
Странно, но этот поселковый лесок, исхоженный сотнями ног, лап и копыт, сделался для меня открытием, чудом.
А настоящая тайга начинается от подножия сопки, основание которой тупо обрублено у самого залива. По побережью растительности немного, здесь редкие низкорослые деревья искорежены ветром и изображают собою будто калек, пришедших к океану искать утешения. Грустно…
Но стоит повернуть на запад, пройти большое маревое болото, и вы непременно попадете в величественную тайгу.
Она стоит зачем-то, она ждет чего-то, она – вечна. Как в доме неприхотливой хозяйки, в таежных жилищах и порядок, и беспорядок, и уют и пустота – и это сочетание непонятным образом создает ощущение гостеприимства и вызывает чувство уважения к дому. Здесь свои запахи, свои законы, здесь ты гость, здесь можно быть самим собой, здесь если и гуляет ветер, то ничего не меняется, это вам только кажется, что меняется, это ветер хотел бы изменить, а тайга остается тайгой – мятежной и властной, неподкупной и не поддающейся ничьей силе. Свободной…
Меня встретила осень. Октябрь. Начало октября.
Я сошел с трапа теплоходика и отправился на поиски школы, хотя «поиски» – не то слово. Стоит спросить любого встречного, и он, ухмыльнувшись, тотчас же покажет.
Школа стоит на окраине: одной стороной окон к лесу, другой – к морю. Я оставил у забора вещи и, движимый непонятным предчувствием, стал быстро подниматься в гору.
Помню, по дороге думал: вот приехал в такую рань, никому не нужен, сирота, неудачник… И только в лесу, словно по волшебству, почувствовал себя нужным и умным, и захотелось, как в юности, поразить кого-нибудь своей значимостью, восторжествовать!
Изумительно тихое утро. И эта тишина в сочетании с только-только поднявшимся солнцем, с блеском ярко-красных рябиновых листьев и букетами бусинок-ягод в желтизне берез, с игольчатой зеленью пушистых елочек и молодых пихт очаровала душу чистотой и естественностью.
Листвы опало много, уже побуревшая, она опечаливала живую картину той, что еще победно красовалась на ветвях.
Листья умирают, а ты живешь. Ты еще полон надежд встретить новое поколение нежной зелени! Ты еще раз увидишь взлет и падение! Ты могучий свидетель…
Как хорошо бороздить ногами хрусткую толщу листьев, касаться гладкой коры простодушных берез, идти бесцельно, зная, что на тебя никтошеньки не смотрит, насвистывать под нос пустяковый мотивчик, брать в руки какую угодно палку, любой камень, швырять их на все четыре стороны, заорав при этом богохулительно, и ни в коем случае не вспоминать, что за тысячи километров наступает ночь, и тысячи разнообразнейших ног стучат по серому асфальту, и тысячи пищевых авосек, портфелей и прочей белиберды снуют из магазина в магазин, а тысячи придурковатых огней мчатся в серость улиц, и среди тысяч городских озабоченных лиц мелькает несколько тех, что принадлежат твоим врагам, тем, кому ты так глупо мешал верхоправить в многотысячном городе. Теперь ты впереди, ты уже встретил утро, а там – тьма и холод…
Долго я бродил по пустынному обреченному лесу, а когда возвращался, с небольшой возвышенности взглянул на бухту. Все еще спала земля, додремывал лес, застыла и бухта, отражая серебряной плотью небесную голубизну. На небе ни тучки…
В переводе с языка аборигенов поселок называется Заливом Ветров. Я тогда еще не знал, что в этих местах ураганные ветры запросто выворачивают телеграфные столбы, одним махом срывают крыши, выдавливают стекла; и улыбался, припоминая грозное романтическое название, наблюдая за чайками и слушая их единственный пока над всем миром крик.
Поселковые строения просты, дома в основном деревянные, много сарайчиков, массивные вереницы поленниц, и всюду заборы, заборы.
Самое большое и внушительное здание – школа. Она была построена явно не по здешним масштабам, с вызовом. Двухэтажная, кирпичная, буквой «пэ», с двумя пожарными балконами по торцам, с четырьмя объемными прямоугольными колоннами, поддерживающими исполинскую бетонную плиту над центральным входом. Есть еще и парадный и штук десять запасных, наглухо забитых.
Я подобрал вещички и направился к массивной входной двери.
В коридоре, где еще не выветривались запахи олифы и извести, меня встретили две женщины. Они явно обрадовались моему приезду, обе говорливые, показали мне кабинет директора, и, не давая сойти с места, стали вводить в курс школьных дел.
Так я узнал, что завуч Валентина Марковна Савина уже, наверное, пришла, что она вообще приходит рано, потому что очень переживает за школьное имущество и в целом за школу, хотя случаев воровства давно уже не было, но ответственность у Валентины Марковны большая, а она все-таки женщина и ждет не дождется приезда нового директора, а старый – пройдоха еще тот был, да толи с браконьерами его где-то взяли, толи в бумагах он что-то нашельмовал, но, скорее всего и то и другое, потому как водились за ним грешки, и уезжать он не собирался, а тут звонок из гороно, вызвали на ковер, как это говорится, и перевели куда-то с понижением, а здесь-то…
За двадцать минут я узнал многое об учителях, об их семейной жизни, о погоде, о жителях поселка, о несчастных случаях. Голова разбухла от наплыва имен, фамилий, фактов. Пришлось беспардонно оборвать говорливых женщин и ретироваться в кабинет директора…
Читателя удивляет подробное описание моего приезда, да еще такой давности?
Я хочу уверить, что не стал бы так многословно начинать эти записки, если бы мог как-то иначе показать день его появления в поселке.
Все дело в том, что он, как и я, как только сошел с теплохода, отправился в лесок, что возле школы, правда, был там гораздо дольше, чем в свое время я.
И самое главное – начало октября!
Вот потому-то, не имея достаточной доли художественного воображения (в данном случае вымысел помешал бы сути) и, передавая события от первого лица, я описал свой приезд, полагая, что и читатель поймет его ощущения и его радостное состояние через мое давнее знакомство с поселком.
А ему было радостно в этот день, можете не сомневаться. Он вошел ко мне в кабинет и, не останавливаясь у порога, сказал торопливо: «Сдрасьте!» – подсел к столу и быстро, возбужденно заговорил:
– Что за чудесное здесь место! Чудо, что за тишина! У вас всегда
такие дни? Я слышал, поселок переводится как Вьюжный или нет – Ветровой. Какая чепуха! Тишь! Абсолютная тишь. А воздух?! – смесь весны, зимы и лета. Ехал сюда, думал – серость, тоска, а зашел в лес и – черт знает! – не лес, а вдохновение! Знаете, ходил, даже бегал по этим листьям, а потом, сам не помню с чего – как захохочу! Упал и швыряю вверх! вверх! А они сыпятся, сыпятся!.. Листья-то… как живые!
Он неожиданно замолчал, наконец, заметив мой недоуменный взгляд и, вероятно, сообразив, что говорит с незнакомым человеком, поспешно встал и представился:
– Сергей Юрьевич Вековой. Вам должны были позвонить. Вы извините, я тут с ходу лишнего наговорил. Но знаете, со мной это не часто, – и он рассмеялся.
Чтобы не забыть, сразу замечу: потом смеялся он очень редко, больше улыбался, и как-то иронично это у него выходило.
Я ждал его, не именно его, а учителя литературы и русского языка. Но не думал, что пришлют молодого.
Предшественница Сергея Юрьевича заработала пенсию и уединилась в «средней полосе России»; я избегал бывать на ее уроках, с сонными глазами она по сорок минут в течение тридцати одного года твердила единственное: пбу-бу-бу…
Молодежи у нас не было, за исключением учительницы химии, приехавшей за год до появления Векового. Молоды были (относительно моего возраста) англичанка – тридцати трех лет, ее ровесница – учительница младших классов, физик Степан Алексеевич Буряк и его жена Анна Самуиловна – учитель математики. Ему тридцать шесть, она на два года старше. Работала тогда еще пионервожатая, девочка после десятого класса, провалилась с поступлением в институт, да лаборантка – к тридцати – вот и вся «молодежь». Остальным за сорок-пятьдесят, не исключая физрука, полноватую и сильную женщину Викторию Львовну Фтык, ей исполнилось сорок четыре, задорнейшая натура, надо отметить, и не без избытка эмоций, которые постоянно заводят ее в непробиваемое упрямство.
Когда я, наконец, понял, что этот молодой человек – преподаватель, то горько посетовал на судьбу: какого лешего она насмехается надо мной?
Интересно, сколько он продержится в нашей глухомани, куда и пешком-то не доберешься, а на транспорте простого смертного не пустят – пограничная зона, видите ли!
Разозлился я тут разом и на гороно за такие подарочки, и на это чертово, всеми ветрами продуваемое место, и на этого новоявленного педагога в помятых джинсах и серой куртке-ветровке, небрежно накинутой на белую футболку. Солидности и строгости ни грамма, а когда рассказывал о прогулке в лесу, усиленно и беспорядочно жестикулировал. Вот вам и воспитатель!
Но первое впечатление обманчиво. Хотя и потом в нём не замечалось «педагогической» солидности и «учительского» себялюбия, он был несравним, когда проводил уроки литературы. Он оказался истинным подарком судьбы, мучеником настоящего дела.
О «странном ведении уроков» первой узнала англичанка Ксения Львовна. После урока Векового они пришла в учительскую: рассеянно и раздраженно перебирала какие-то бумаги в шкафу; минуты три сидела в задумчивости на стуле, и явно не собиралась делиться впечатлениями.
Заметив, что Ксения Львовна собирается уходить, наша завуч громко спросила:
Ну, как, Ксения Львовна?
Непонятно отчего Ксения Львовна, с неприсущей ей экспрессивностью, фыркнула: «Фанатик!» – и поспешила за дверь.
На следующем уроке в десятом классе присутствовал я.
Вековой вошел сразу после звонка и нетерпеливым жестом посадил учеников. Сегодня на нем были застиранные вельветовые брюки и белая с черными полосками рубашка. Открытый ворот.
Он остановился возле окна, посмотрел на улицу и, не оборачиваясь, неожиданно громко сказал: «Ветер».
Ученики переглянулись, а он повернулся и стал спрашивать:
– Вы знаете, сколько написано о ветре? И о солнце, о тучах, о березе, о дубе, о море? Зачем? Зачем человеку писать о природе? Зачем останавливать беспрестанно меняющееся? Все равно на бумаге
не будет так же прекрасно, как в жизни. Тем более не отразишь человека? Или отразишь? – он снова смотрел в окно, – Толстой, Достоевский, Бунин, Чехов – отразили, показали человека? Он ли там – в их рукописях, в их поисках истины, или их выдумка? А что, если все мы ошибаемся? Существует же самообман? Тогда стоит ли вам изучать литературу?
Ученики оцепенели некоторые опустили головы, словно стыдясь откровенности учителя, другие все больше поддавались гипнотической силе слов, вызывающих в душе смятение.
Сергей Юрьевич спрашивал долго, и мое сознание наполнилось вопросами, они застигали врасплох, на них невозможно было ответить сразу.
Я очнулся, когда Вековой подошел к столу и открыл журнал.
Борисов, – ученик поднялся, и Сергей Юрьевич спросил:
Как зовут?
– Вас? – не понял ошеломленный Борисов.
– Меня – Сергеем Юрьевичем, а тебя?
– Сергеем.
– Тезки, значит. Садись. И отвечать будете сидя. Странно, и у вас в журнале не проставлены имена, – как будто между прочим бросил Сергей Юрьевич и продолжал знакомство с классом, успевая вписывать имена и говорить.
– Заранее предупрежу вас – у меня плохая память на имена, а фамилии я тем более не запоминаю. Фамилии – это для государства. Помните – Платон, Аристотель, Диоген? Прекрасно, без всяких закорючек… Вы задумывались? А теперь мы будем искать выход сообща, насколько, конечно, это возможно… Я о вере: тысячи, нет, миллионы людей верили в бессмертие. Вы знаете об этом? Почему им хотелось сохранить свою плоть, свою душу, имя свое?.. Бессмертен ли наш язык? Придет, быть может, время и расплавит книги, цивилизации? Или человек победит, достигнет большей власти, ему будет больше доверено? Природой? Вселенной? Разумом?.. Да, класс у вас небольшой, тем, впрочем, и лучше. Вы, наверное, удивляетесь мне? – он поднял голову и обвел взглядом лица. – Поверьте, я не для эффекта, вы самые старшие в школе, с вами можно говорить, нужно говорить обо всем. Мне же дано право учить вас, а через раскованную речь, через то, что меня тревожит и восхищает, я хочу подойти к самому главному… Поскольку у нас урок русской литературы, то самое главное на данный момент – художественное произведение.
Он закончил перекличку – для меня, захлопнул журнал и встал.
– А что такое художественное? Вы знаете? Вот ты, Андрей, – показал он рукой на одного из лучших учеников школы, – знаешь? Сиди, сиди.
– Художественное, – замялся Андрей, – значит… воображаемое… Нет, правдиво отражающее действительность!
– Почему правдиво? Разве не бывает не правдиво, а художественно?
– Наверное, бывает.
– Например?
– Например… Демона на свете нет, а у Лермонтова есть, – нашелся Андрей.
– Да, конечно, хотя смотря что понимать под словом правдиво. Может быть, правдивость художественного в способности автора незаметно овладеть нашими чувствами, эмоциями, разумом? Или в бескорыстном желании, в потребности художника видеть мир своим существом – неповторимым и уникальным; каждый оценивает мир по-своему, а почему мы взгляд одного человека на ту или иную вещь называем правдивым, а взгляд другого – ложным, когда от разности взглядов – поиск, движение? Не убивать же человека, если он видит то, чего другим не дано увидеть? Или убить? От зависти? Сохраняя безопасность?.. Один мой товарищ говорил, что художественное – попытка объяснить свой ум, понять его и самого себя, что произведение – это одно из дерзновений на преодоление времени и смерти, что художественное – это то, к чему через человека стремится природа, потому что сама она не художественна. Я думаю иначе, но сейчас не будем говорить об этом. Задумывайтесь над различными, даже хорошо вам известными и понятными словами, и вы поймете, что каждое слово бездна, неоднозначно, и порой ни за что не постигнешь его сути, а постигать-то нужно… – улыбнулся он.
Я не задаюсь целью описать весь урок. Кое-что из сказанного им я успевал автоматически заносить в блокнот, и у меня сохранились эти записи. Перечитывая их, я подумал, что в тот первый урок он ничего такого необычного не сказал, хотя говорил много, делая, казалось, лишние отступления. Но в бесконечных вопросах, которые он задавал, звучало одержимое стремление знать что-то, обладать чем-то, и создавалось впечатление, что на многие вопросы ответить мог бы он один.
Каждый урок он начинал по-новому, я часто присутствовал у него в классе и со временем понял, что основной его прием – не использовать никаких педагогических приемов.
Произведения он помнил отлично, и когда цитировал – навевал атмосферу далекую, но переживаемую всем существом вашим. Что и говорить, владел он аудиторией легко и уверенно.
А в тот день я был раздражен.
Я не понимал, зачем это желание ошеломить подростков вечными вопросами? Я испытал болезненное смятение, которое вызвало острое желание противоборствовать натиску молодого учителя.
Тот урок был необычен еще и тем, что Вековой не называл дат рождения и смерти авторов, а, описывая историческую ситуацию или пересказывая сюжет произведения, говорил в настоящем времени, что особенно поражало, и, наверное, от этого, прошедшие или вымышленные события представлялись сегодняшними, воскрешаемыми сопереживанием. Никто не заметил, как прошло время.
Прозвенел звонок, и я поймал себя на мысли, что сожалею о скором возвращении к надоевшей действительности. Сергей Юрьевич, не давая домашнего задания, вышел из класса.
Ребята, словно по команде, повернулись ко мне…
Я не проверял планы уроков, предоставив заниматься этим делом неугомонной Савиной, но нужен был предлог, чтобы высказать свое мнение, и в учительской я попросил у Векового план.
В плане стоял Маяковский. О Маяковском он говорил, но больше о революции, о разных идейных течениях, о футуристах, прочел несколько стихотворений.
Я осторожно спросил:
Вы думаете, на уроках целесообразно затрагивать проблему смерти? Сознание ребят не окрепло, а эта проблема требует большого нервного напряжения.
Вы сказали «проблема», а разве есть такая? Есть тема, которая, так или иначе, входит в программу. Например: тема смерти в творчестве Лермонтова, Блока, да и того же Маяковского, возьмите его смерть. Так что все по уставу. Говорить о любви и храбрости, делая вид, что нет никакой смерти? Смерть – итог жизни человеческой, важно задумываться о ней с детства. Потом будет поздно…
– Что поздно? – перебил я.
Поздно приобретать нравственность! – недовольно, но сдержанно бросил он и попросил разрешения идти.
Я отпустил его.
«Приобретать нравственность, думая о смерти, или выработав отношение к смерти? Так он хотел сказать?» – размышлял я некоторое время после его ухода.
Я понимал, что он попросту отмахнулся от меня, не захотел говорить откровенно. Предупредили меня в гороно – на старом месте Вековой не ужился с директором.
Были у него, значит, основания опасаться прямых разговоров и со мной.
2. На «ты»
Поселился Сергей Юрьевич в четырехквартирном доме. До школы метров двести. Из окон виден залив.
Большая кухня с печкой, занимающей весь угол возле окна, и маленькая комната с письменным столом, старым комодом да парой стульев – вот и все, что у него было. Спал Сергей Юрьевич на раскладушке, каждое утро складывал постельное белье в комод, собирал раскладушку и прятал за занавеску (что-то наподобие ширмы). Книг у него, можно сказать, совсем не было, если не считать два тома Лермонтова да несколько известных романов.
Любил он порыться в старых журналах, которые мне достались от прежнего директора. Своих книг у меня мало, в основном по истории, я ему как-то предложил одну, он прочел, возвратил и сказал, что не понравилась, но взял другую, тоже по истории.
Читал без разбора, все подряд, говорил, что привык к книгам с детства, но так и не сумел выработать систему в чтении. Я потом понял, что системы в чтении у него и быть не могло, он досконально знал всю русскую литературу, помнил те имена писателей и их произведения, которые и при жизни ничего не значили, а для нас теперь и вовсе пустой звук.
Он мог беседовать о литературе часами, вдохновенно, радостно, забывая обо всем другом.
Хотя и читал многих современных писателей, редко одобрял прочитанное, а явную халтуру высмеивал до того зло, что, слушая его критику, я вздрагивал от хлестких определений – саркастичный, дьявольский тон.
Он считал, что человека воспитывает слово, говорил:
«Человеку необходимо дать вовремя нужную книгу, а вот нет нужной, есть только та, в которой пошлая ложь да казенщина. Литература девятнадцатого века не поможет современному человеку полноценно осознать себя в мире, потому что она лишь начало великого поиска Истины. Нужна новая литература – созидательная», а, как утверждал он, есть лишь десяток вполне осознанно созданных произведений.
Я давно мечтал пообщаться с человеком, по-настоящему знающим литературу. Историку литературное образование необходимо. Женщины в литературоведении мало смыслят; если они и знают множество произведений, течений и направлений, то крайне редко поднимаются выше красивого пересказа подлинника и материала, изложенного в учебниках, выглядят в такие моменты неуверенно: охают, ахают, запинаются и путаются иногда до такой степени, что долгое время не могут выйти замуж. Классический пример – второй преподаватель русского языка и литературы в младших классах. Нет смысла называть ее имени, так как эта женщина хоть и примыкала к союзу Савиной, но не имела ни желания, ни возможности возражать или противоречить методам своего коллеги, – она просто-напросто знала наизусть все учебники – и то, если они лежали перед ней открытыми. Жила она безалаберно и нерасчетливо, ее много раз жестоко обманывали мужчины – единственная тема, которую она обсуждала на валентиномарковских сходках. В дальнейшем о ней – молчание.