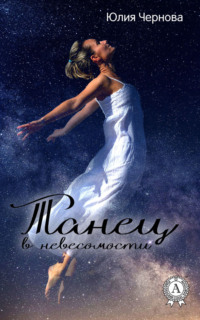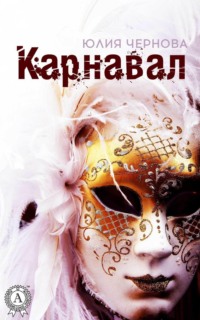Полная версия
Пятый легион Жаворонка

Юлия Чернова
ПЯТЫЙ ЛЕГИОН ЖАВОРОНКА
(мы были)
Моим родителям
Рим был и есть, иного не дано,К нему приводят все дороги.И мне однажды было сужденоЗастыть в поклоне на его пороге…Сергей ДмитриевДверь к счастью открывается наружу.
Древняя мудрость…И сжигает века и милиИскра, полустрока: «Мы были»…Екатерина АчиловаЧАСТЬ ПЕРВАЯ
«Испросить помилование осужденному? У Домициана? Добиться помилования для жалкого актеришки, оскорбившего всесильного императора?
Это было бы просто, окажись актер и впрямь жалок. Увы! Слава его гремит от Алезии до Дамаска, а уж в самом центре мира – в Риме – нет и не может быть человека, не слышавшего об актере Парисе. Ему рукоплещет знать, а чернь дерется за места в театре. Приближенные императора отдают предпочтение Парису – дело неслыханное, ибо Домициан ясно показал, что покровительствует Латину. Сама божественная Августа[1] Домиция снизошла до… В городе в голос говорят о том, о чем при дворе лишь шепчутся.
Парис красив – выходит на подмостки без маски: светловолосый и темноглазый, любимец богинь, да и смертных женщин. В движениях его величие, мало – царственное, Юпитеру Громовержцу приличествовали бы жесты его и осанка. А голос… В голосе смех – никто от смеха не удержится. В голосе гнев – любое сердце сожмется. Дрогнет голос – и толпа, опьяненная кровью ристалищ, слезы прольет.
Парис красив, Парис любим, Парис славен… А император?
Если призадуматься, так ли уж он всесилен? Есть сенат – запуганный, разобщенный и все же строптивый. Есть наместники провинций и начальники легионов, всегда готовые воспользоваться недовольством солдат (разве бывают солдаты довольны?), чтобы склонить их к бунту – хоть втрое жалованье легионерам увеличивай, покоя не узнаешь. Есть чернь, чьи насмешки не смертельны, но ощутимы. Есть супруга Домиция, чья добродетель столь же нерушима, как крепость из песка. И, наконец, есть преторианцы – императорская гвардия – преторианцы, привыкшие избирать императоров по своему вкусу.
Нет, Домициан не всесилен, этим и объясняется его ярость. И добиться помилования… для того, кто превосходит императора величием…
Тут и своей головы недолго лишиться».
Корнелий Фуск повел подбородком, словно проверяя, крепко ли голова держится на плечах. Поморщился: раннее утро, а дышать нечем. Небо пронзительно-синее, к вечеру выцветет от жара. Август – гиблое время в городе. Ватиканский овраг дышит лихорадкой. Все, кто могут, к середине лета спешат выбраться за городские стены. Рвутся на просторы Лация и Этрурии, в прохладу дубовых и буковых рощ. Остаются неимущие. В конце лета город принадлежит бедноте. Лихорадка, пыль, пекло – их удел.
«Почему императору вздумалось покинуть Альбанское поместье, покинуть тишину лесов и свежесть озер и вернуться в Рим? Неужто из-за актера Париса?»
Корнелий Фуск свернул на Священную дорогу, намереваясь оттуда подняться на Палатин по Этрусскому переулку. Путь его пролегал в тени беломраморных базилик и храмов, заполнявших Форум, но прохлады не было и в тени. По левую руку высилась громада Палатинского холма, застроенная дворцами так тесно, что казалась сплошной мраморной глыбой, поросшей густо-зелеными пиниями и кипарисами.
Фуск ускорил шаги. За плечами его развевался алый плащ, серебряные доспехи отражали потоки света. Позади громыхал конвой. Подбитые гвоздями солдатские сапоги-калиги мерно ударяли по мостовой. Позвякивали доспехи. Встречные горожане проворно отскакивали в стороны.
Несмотря на ранний час, на улицах царило оживление. Ремесленники спешили в мастерские, торговцы – в лавки, клиенты – приветствовать богатых покровителей. Разноголосый хор звучал все громче. Продавцы зазывали покупателей, менялы стучали монетами по переносным столикам. Распахивались двери лавок: у мясников, зеленщиков, продавцов рыбы и масла не было отбоя от покупателей.
Корнелий Фуск взбежал по широкой лестнице, ведшей на Палатин. Дворцовый холм недавно украсился еще одним сооружением, должным, по замыслу Домициана, затмить все прежние. Новый дворец поражал размерами и великолепием отделки. Самые драгоценные сорта мрамора облицовывали стены: зеленый лаконский, золотистый нумидийский, белый лунийский, лиловый афинский.
Часовые у ступеней застыли изваяниями. Начищенные шлемы отражали солнечные лучи. Стража сменялась каждые два часа, но Фуск знал, что еще до истечения этого срока изваяния начнут покачиваться.
Центурией, несшей стражу на Палатине, командовал Марк Веттий. В преторианскую гвардию он был переведен из британских легионов, где отслужил девять лет, и в гвардии за последний год дважды получал повышение. Фуск ценил его тем более, что знал, как редки командиры подобного типа: они правят не лозой и не лестью, зато и повинуются им не из страха наказания и не из жажды почестей.
– Марк, переведи часовых в тень.
Центурион улыбнулся одними глазами – вероятно, хотел обратиться именно с этой просьбой.
Цепочка сверкающих щитов и доспехов осталась позади. Фуск позволил себе чуть замедлить шаг. По мановению руки отстал, скрылся в отведенном помещении конвой. Облаченные в белое императорские рабы низко склоняли головы, приветствуя человека с серебряным мечом на перевязи, Луция Корнелия Фуска, префекта преторианцев. Не меньшую любезность проявляли и сенаторы. Поневоле станешь вежлив с тем, у кого под рукой девять тысяч отборных солдат.
Фуск приближался к личным покоям императора. В жару Домициан обыкновенно не покидал опочивальни, проводя день в сладкой истоме, и лишь вечером совершал прогулку по саду. Придворные острословы изощрялись на этот счет. Так, Вибий Крисп осмелился утверждать, будто божественный Цезарь заполняет день тем, что ловит мух и протыкает их острым грифелем. Понятно, навету никто не верил, но все смеялись.
В крытой галерее, окружавшей внутренний двор, собрались придворные. Ожидали выхода императора, узнавали последние новости, пересказывали самые нелепые сплетни. На фоне серебристой зелени, золотистого мрамора пестрели разноцветные одеяния.
Фуск снял шлем. Светлые волосы заблестели под солнцем.
– А, благородный Фуск, – сенатор, дважды консул Квинт Вибий Крисп – высокий, седой, надменный – медленно поднял веки. Его можно было бы принять за ревнителя старины, этакого Катона Утического, воспевающего нравы предков вопреки нынешней распущенности, если не знать, что невероятное состояние в триста миллионов сестерциев он нажил доносами. – Явился приветствовать императора?
– Да, Квинт. Не знаешь, Цезарь один?
– Один. Нет даже мухи, – откликнулся Крисп, и глаза его блеснули.
В толпе послышались смешки. Фуску, чтобы сохранить серьезность, пришлось прикусить губы.
Марк Аквилий Регул обратил к префекту бледное до желтизны лицо. Регул слыл выдающимся оратором, и своим ядовитым красноречием погубил немало людей.
– Известно ли тебе, префект, чем вызвано столь внезапное возвращение императора в Рим?
Придворные вытянули шеи, прислушиваясь к разговору.
– Полагаю, Марк, могла быть только одна причина, – Корнелий Фуск выждал, пока вокруг стихнет шум разговоров. – Забота о благе подданных.
По толпе плеснуло смешком, но догадаться, кто веселился, не было никакой возможности, все лица выражали почтительность пополам с благоговением.
– Думаешь, прежде, проводя время в уединении, император плохо заботился о своем народе? – сухо осведомился Катулл Мессалин.
Фуск глянул в пустые глаза слепца.
– Кто мог вообразить такое? Не тот ли, кто сам таит подобные мысли?
Мессалин в замешательстве переложил трость из руки в руку. Регул усмехнулся. Юния, златоволосая красавица (злые языки шептались, что косы ее накладные), послала префекту призывный взгляд, оставшийся без ответа. Тогда, обнажив в улыбке мелкие зубки, она сказала громким шепотом, обращаясь к Бебию Массе.
– На днях я встретила Винию Руфину… Можешь представить, она была в некрашеной тунике и стоптанных туфлях… Я приняла ее за рабыню.
– Прошли те времена, когда отец ее хозяйничал на Палатине, – ответил Масса.
– Правда, на шее она до сих пор носит полмиллиона сестерциев, подаренных некогда Тигеллином. Говорят, не расстается с этим ожерельем, – Юния метнула взгляд на Фуска, изо всех сил старавшегося ничего не слышать. – Рассказывают, Тигеллин на пиру снял ожерелье со своей наложницы и надел Винии.
– Дочери консула, – подхватил Бебий Масса, – до чего мы дожили!
– Ну, отец ее был консулом всего-то пятнадцать дней.
– И ограбил Рим, как никому не снилось, – мечтательно заключил Бебий Масса.
Юния вновь бросила взгляд на деревянную спину префекта.
– Вероятно, император встревожен какими-то слухами? – негромко уронил Вибий Крисп.
– Что? – переспросил Фуск. – Не знаю, Квинт. Солдату подобает выполнять приказ, а не задавать вопросы.
Тон его был слишком резок. Юния улыбнулась.
– Актеры в этом году дают представление за представлением, – рассеянно заметил Вибий Крисп. – Не только в театрах, но и в частных домах.
– Парис имеет необыкновенный успех, – поддержал Регул. – Говорят, Виния Руфина охотно приглашает его.
Худое, скуластое лицо префекта стало злым.
– Божественная Августа приглашает его еще чаще, – ответил он. – Что с того?
Регул замешкался с ответом. Открыто обвинить Августу никто бы не решился.
– Или ты видишь в этом что-то дурное? – допытывался Фуск. – Возможно, ты вздумал судить поступки Августы? А то и самого Цезаря? Это пахнет законом об оскорблении величества.
Крисп и Мессалин одновременно отодвинулись от Регула. Юния, увенчанная косами германских рабынь, была уже на другом конце двора.
– Я упомянул о Винии Руфине, – возвысил голос Регул, став еще бледнее, – и только.
– Позволь. Ты говорил об актере Парисе и зрителях, у которых он имеет успех.
– Я не знал, что божественная Августа им восхищается.
– Теперь знаешь. Поспешишь объявить себя другом Париса?
Регул окончательно запутался, принужденный выбирать между гневом Августы и Цезаря.
– Так что же? Не выкажешь дружбы Парису? Или мнение Августы для тебя неважно?
– Важнее мнение Цезаря, – выбрал Регул.
Корнелий Фуск не ответил, взглянув куда-то за спину Регула. Тот обернулся и позеленел. Августа Домиция стояла позади него и, сложив руки на груди, внимала разговору. Несомненно, она находилась там уже давно, и Фуск ее прекрасно видел. Высокая, крепко сбитая – дочь Домиция Корбулона, победителя парфян, унаследовала от отца рост и сложение. У нее был массивный подбородок, крупный нос. Над широким лбом поднимались завитые в мелкие кольца волосы. Домицию никто не назвал бы красавицей, но от нее исходила сила, и сила безжалостная. На бренные останки Регула было больно смотреть.
Фуск прошел во внутренние покои дворца. Чем ближе к комнатам императора, тем пустыннее становились галереи и переходы. Шаги рабов шелестели не громче капель, разбивавшихся о чаши фонтанов. Фуск и сам начал ступать осторожнее. Приблизился к дверям, отделанным золотом и перламутром, вызвал императорского секретаря. Тот явился незамедлительно.
– О чем префекту угодно говорить с Цезарем?
Разумеется, не об актере Парисе. Есть повод более серьезный. Настолько серьезный, что императору впору забыть об актере.
– Тревожные вести с мезийской границы. Даки готовятся к войне.
Секретарь беззвучно исчез, чтобы вернуться через мгновение.
– Божественный Цезарь отдыхает и призовет тебя позже.
Фуск не ждал иного ответа, но едва справился с досадой. Император не желает ни о чем думать, пока не покончит с дерзким актером. Выходит, надежды отвлечь его – нет совершенно. Скверно. Да и положение в Мезии требует срочного вмешательства. Нужно переместить войска… Он не может этого сделать, без согласия императора.
Зато позаботиться об актере – может.
* * *Из четырех сортов коринфской бронзы самым дорогим считается сорт, называемый «печеночным». Темный, с винно-красным отливом. Таков был точь-в-точь цвет волос Винии Руфины. Только сейчас падавшие на лоб красноватые пряди совсем потемнели от пота. Под глазами – синеватые полукружия.
Фуск осторожно коснулся ее руки. Узкая ладонь была горячей и влажной. Виния разлепила запекшиеся губы.
– Лихорадит.
– Лекарь велел ей не вставать с постели, – наябедничал Гай Элий. – Как думаешь, последовала она совету? О, да, как все женщины – строго наоборот.
Гай улыбнулся, но в его светлых глазах не отразилось улыбки. Узкое смуглое лицо оставалось тревожным, почти сумрачным. Тога с пурпурным окаемом сияла белизной, ни одна тщательно заложенная складка не была смята – словно по мановению руки он перенесся из дома на многолюдный Форум, минуя толчею узких улиц.
Солнце клонилось к закату, на тусклом от жара небе появились первые золотистые облака. Удлинились тени от многочисленных колонн и статуй, украшавших Форум. Белоснежные портики храмов начинали розоветь, тени становились фиолетовыми. Близился час вечерней свежести, когда истомленный солнцем город спешил вздохнуть полной грудью. С каждой минутой на площади делалось все оживленнее.
– Тебе следовало увезти ее, – начал Фуск и тотчас спохватился: Элий, исполнявший обязанности претора, не мог покинуть город. – Твой отец мог бы. Почему вы не уговорили ее уехать?
– Уговорить? – переспросил Элий с преувеличенной серьезностью. – Я не ослышался? Мой друг предложил «уговорить»? Вот ее? Мою двоюродную сестру?
Корнелий Фуск улыбнулся. И тотчас, словно по волшебству, озарились улыбками лица стоявших поодаль рабов, заулыбались строгие, исполненные достоинства ликторы и молчаливые преторианцы. Взгляд Гая Элия смягчился и потеплел. Даже томимая лихорадкой Виния почувствовала, как уголки губ ползут вверх, и немедля обратилась к Фуску за поддержкой.
– Уехать? Завтра же скачки! Уехать, не узнав, так ли хороша гнедая кобыла: Мепп всюду хвалится своей упряжкой. Меня досада прикончит скорее лихорадки.
Гай Элий выразительно посмотрел на Фуска: «Ты уверен, что женившись, станешь счастливее?» И еле слышно произнес:
– Августовская лихорадка…
Фуск ответил коротким взглядом. Произнес громко:
– С красавицами всегда так. В ответ на заботу – насмешки, в ответ на пламень – холодность.
– Как, префект Фуск, – Виния повернулась к нему, на бледном лице выделялись яркие пятна румян, – и пятнадцати лет не прошло, как ты, наконец, разглядел мою красоту. По-моему, слишком торопишься. Выжди для верности лет эдак…
– Ах, злая Виния! Пятнадцать лет назад мы и знакомы не были.
– Нет, были! – Виния хлопнула рукой по подушке. – Ты вместе с Гаем приходил в дом моего дяди. А на меня даже не взглянул. И все потому, что я косы срезала.
Фуск качнул головой. Не представить: Виния Руфина – стриженая, как мальчик. Не представить. Как и не вернуть упущенных лет.
Только подумать: боги даровали встречу с Винией Руфиной пятнадцать лет назад. Он не заметил, не запомнил ее. Антония… Тогда он был ослеплен. Из всех женщин видел одну Антонию. Антония… Перед глазами встает стена беседки, оплетенная виноградом. На сухих лозах листья багряны. Мраморное изваяние Венеры. Дождь хлещет по белоснежным плечам богини. Женщина в бордовой тунике, облепившей тело, красотой форм превосходит пеннорожденную. Слипшиеся пряди волос, пунцовые губы.
Она оказалась жадна, отвратительно жадна… Принеся жертвы у алтарей, вошла в его дом женой. Женой человека влиятельного. Брала подношения у всех, кто искал заступничества ее мужа. Стоило Фуску покинуть Рим, распорядилась отвезти и бросить на Тибуртинском острове у храма Эскулапа старых рабов – не кормить же даром. Челядь держала впроголодь. Клиентов угощала объедками да кислятиной, вроде лигурийских вин. Антония… К ней, единственной, стремился взор. А после пяти лет супружества он не то, что видеть ее – слышать о ней не желал. Вероятно, Антония испытывала сходные чувства, ибо с легкостью покинула и мужа, и дочь. Уходя, забрала даже игрушки и украшения, подаренные маленькой Корнелии.
Время утекло – не вернуть. Лишь этой весной Фуск в доме Гая Элия вновь встретил Винию. Почему-то с тех пор дела призывали его в дом друга чуть не каждый день.
– Ты отомщена, – вздохнул Фуск. – Все мои взгляды остаются безответными.
– Еще бы. У тебя было пятнадцать лет, чтобы разглядеть мои достоинства, у меня – твои недостатки.
– Безжалостная!
– Не отчаивайся, – утешил префекта Гай Элий. – О тебе помнили пятнадцать лет.
Фуск отмахнулся.
– Помнили – выйдя замуж за другого.
– Не родился еще мужчина, способный разбить мне сердце, – гордо заявила Виния.
На мгновение прикрыла глаза. Фуск и Элий вновь быстро переглянулись.
– Твоя дочь все еще в Толозе? – спросил Гай.
Виния затаила дыхание. Она, разумеется, слышала о взрослой дочери префекта Фуска, но не видела ни разу. На ее жадные расспросы Гай Элий пожимал плечами. «Красивая? Еще девочка».
– Да, – откликнулся Фуск. Не удержался от желчной усмешки. – После десятилетней разлуки Антония возгорелась желанием ее увидеть. Я не препятствовал. А сейчас даже рад: не томиться же ей в такую жару в Риме. Вернется к ноябрьским календам…
Виния завертелась на горячих подушках.
– Хочу домой, – сказала она капризно, – нет, к себе домой. Префект, ты мой гость, не вздумай отказаться. Марциал уже месяц слезно умоляет о встрече с тобой. Я обещала. Берегись его разочаровывать, пощады не будет. Ославит в эпиграммах на весь Рим.
– Отрадно сознавать, что счастьем получить приглашение я обязан Марциалу.
– Гай, тоже можешь придти.
– Ты сегодня поразительно любезна, – Гай Элий поклонился. – Отвергнуть столь радушное приглашение невозможно.
Лектикарии подняли носилки и скорым шагом – насколько это было возможно на запруженных народом улицах – направились в сторону Эсквилина. Толпа все прибывала, временами рабам приходилось поднимать лектику над головой. Фуск предоставил солдатам конвоя прокладывать дорогу.
Маленькая процессия миновала Форум с его священной смоковницей, бесчисленными изваяниями богов и богинь, императоров, знаменитых граждан… Надо всеми возвышалась отлитая из золота статуя Домициана, затмившая пять прежних, серебряных.
Корнелий Фуск сдержал шаг и, поравнявшись с Элием, сказал негромко:
– Гай, тотчас отошли носилки за Зенобием.
– Императорский лекарь?… Согласится ли? – усомнился Элий.
– Пусть твои люди спросят центуриона Веттия, он разыщет лекаря и передаст просьбу. Мне Зенобий не откажет.
Элий кивнул, убеждать его не требовалась. Сколь опасна августовская лихорадка знал с того дня, как навсегда закрылись черные глаза Постумии Гарцы.
Наконец, они достигли дома Винии, находившегося на северном отроге Эсквилина, близ портика Ливии. Фуск порадовался, что в этом портике Виния может спасаться от жары. Платаны, увитые виноградными лозами, превратились в тенистые беседки. Звенели фонтаны, наполняя воздух влагой и прохладой. Это был настоящий оазис среди раскаленных на солнце каменных стен.
Лектикарии опустили носилки на землю. Фуск протянул руку, любезно помогая Винии выйти.
– Гай, жду тебя вечером, – обратилась Виния к брату. – Префект, можешь меня сопровождать.
– Благодарю, божественная.
Простившись с Элием и отпустив конвой, Фуск последовал за хозяйкой. Миновав переднюю-остий, они остановились в полутемном атрии. Тускло поблескивала вода в бассейне – солнце садилось, лучи уже не попадали в квадратное отверстие в крыше. Смутно угадывался ряд мраморных и бронзовых изваяний, выстроившихся вдоль стен. В воздухе витал очень сильный густой, тягучий аромат – где-то прятались вазы с лилиями.
– Скажешь ты наконец, – быстрым шепотом спросила Виния. – Что с Парисом?
– Император ничего не обещал мне. Все же, надеюсь, мы выиграли день… полдня. Приказ еще не отдан. Но я могу получить его в любое мгновение. И уж тогда, – он улыбнулся, – какая-нибудь досадная случайность помешает исполнить волю Цезаря.
Тут Фуск с восторгом подметил в глазах Винии испуг.
– Ты рискуешь головой! – воскликнула она.
– Женщины любят героев, не правда ли?
– Живых героев, – уточнила Виния.
Послышались шаркающие шаги, и раб-атриенс внес факел. Пламя отразилось в квадратном бассейне-имплювии, пробежало по ряду окружавших бассейн колонн, выхватило из тьмы вазы, полные белоснежных лилий.
– Я приказал натопить термы, – сообщил раб.
– Натопить! – Виния стремительно развернулась к нему. – В такую жару! Ты выжил из ума.
Старик покорно пожал плечами, однако Фуску померещилось – глаза раба лукаво блеснули.
– Я мечтаю о ледяной ванне. Немедленно охладить печь, проветрить… О, боги, в эту духоту и проветрить нельзя, – продолжала стенать Виния.
Старик пожевал губами и сообщил.
– Барвену купить не удалось. Торговцы совсем потеряли совесть… За одну жалкую рыбешку требуют платы, как за доброго скакуна.
– Ах, скряга! – задохнулась Виния. – Говори, чудовище, чем я буду угощать гостей?
– Я раков принес, да десятка два устриц, да крупных улиток.
Виния воздела руки, взывая к богам.
– Раков! На праздничный стол. До какого позора я дожила!
Фуск изо всех сил старался не рассмеяться.
– Съедят, не побрезгуют, – неторопливо продолжал старик. – У нас все подчистую съедают. Ты и десять перемен блюд подай, не откажутся. Хоть бы совесть имели – при нынешней дороговизне. Поросенка целого поставишь – умнут, колбасы выложишь – туда же, в ненасытную их утробу. С виду поглядишь: худые все, тростинки, а есть начнут – покойного Виттелия перещеголяют.
Виния уже хохотала.
– Конечно, – меланхолически продолжал старик, – на дармовщину чего бы не дать аппетиту разгуляться. Знай, щедрость хозяйки нахваливай. Глядишь, и добавки предложат.
– Ну, да, Гермес, а ты бы хотел, чтобы меня за скупость проклинали?
– Меры ты не знаешь, госпожа. Вон, Фульвия, три сорта вина на стол ставит. Одно – для себя. Другое, поплоше – для друзей, а уж третье, что и в рот взять противно – для клиентов. Никто у нее за столом и не засиживается. Зато у Фульвии – и наряды новые, и диадема драгоценными камнями горит, и рабов сотни; не то, что один старик-калека и за управителя, и за привратника, и за…
– Фульвия? – смеясь, переспросила Виния. – Фульвия родилась в бедности и теперь кропотливо, перстень к перстню, запястье к запястью, – собирает доказательства, что жила не напрасно. Вершины достигла: богатства.
Виния положила руку на плечо старика.
– А я знала богатство, и тоже хочу увериться, что жила не напрасно. Собираю подтверждения тому: улыбку к улыбке, поэму к поэме. Гостям здесь весело, вот и приходят.
Старик закивал.
– Идут, идут. Вот уж чего ты, госпожа, можешь не бояться: тебя не оставят, пока вконец не разорят.
– Гермес, возможно, придет день, когда гостям в моем доме подадут хлеб и чеснок. Но лишь тогда, когда я сама другой пищи видеть не буду.
– Не беспокойся, госпожа, этот день не за горами.
– Гермес, – задумчиво произнесла Виния, – когда-то строптивых рабов бросали в садок с муренами. Не возродить ли этот обычай?
Если Виния ждала подтверждения, то напрасно – старик словно воды в рот набрал. Виния велела проводить гостя в малый триклиний и подать угощение, а сама поспешила в термы.
Она почти вбежала в аподитерий-раздевалку. Дернула пояс, торопясь сорвать пропитанную потом и пылью одежду. Виния дрожала от слабости и нетерпения и только туже затянула узел. В ярости топнула ногой. Рабыня-эфиопка уже спешила на помощь. Виния едва выдержала несколько мучительных мгновений, пока узел, наконец, был развязан. Сбросив одежду, она кинулась во фригидарий, в бассейн с холодной водой. На мгновение у нее остановилось сердце – показалось, окунулась в кипяток. Виния вынырнула, задыхаясь, жадно ловя губами воздух. Отбросила назад мокрые пряди. Подставила лицо водяным струям, бьющим из пастей серебряных львов. Капли рассыпались мелкими жемчужинами.
Виния быстро взошла по мраморной лесенке, отжала волосы. Потом, стряхивая капли на мозаичный пол, отправилась в тепидарий. Здесь над молочно-белой водой в круглой чаше бассейна поднимался пар. Виния легла на теплую мраморную скамью, и все та же рабыня-эфиопка натерла ее маслом и принялась очищать кожу скребками из слоновой кости.
– Довольно, – Виния оттолкнула руку рабыни.
До кожи было больно дотронуться. «Жар. Как некстати болезнь… Только бы Парис сумел прийти. Фуск предостережет его. Боги, помогите Фуску… Ой, какая горячая вода!»
Медленно, задерживаясь на каждой ступени, Виния сошла в бассейн. К ее изумлению, горячая вода доставила не меньше наслаждения, чем холодная. Из тепидария Виния поспешила в раскаленный кальдарий, где, дыша коротко и часто, не выдержала дольше нескольких мгновений, а затем вновь погрузилась в ледяную воду.