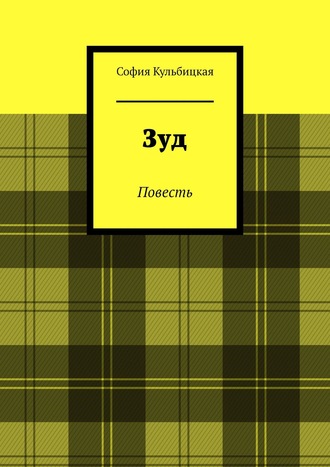
Полная версия
Зуд. Повесть

Зуд
Повесть
София Кульбицкая
© София Кульбицкая, 2020
ISBN 978-5-4496-1017-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
I. ЗУД
1
Вдавил в себя палец – узнать, пристал ли загар. Белый след рассасывался медленно, но Вадим не помнил, хорошо это или плохо.
Щурился на сочащийся птичьим щебетом тростниковый зонт. Ёрзал, скребясь зудящей спиной об укрытый махровым полотенцем матрас. Знал, что неотвязная чесотка от этого только усилится.
«Как свинья о дерево», – думал о себе с отвращением.
Вероятно, не стоило идти сегодня на пляж – мог бы и обождать, пока заживут смазанные местным кефиром ожоги! – но, если ты альтруист и боишься разочаровать близких в содеянном ими добре, тупое упорство тебе простительно.
Что ж. Снялся с лежака и решительно – насколько позволял рыхлый, крупнозернистый песок – зашагал к морю. Ловя себя на обиженных соплях, он сам переставал себя уважать. Но вернуться к жизни удавалось только энергичным брассом или – если обида заставала его на суше – бодрой трусцой по променаду. С каждым разом заплывы становились рискованнее, а забеги – изнурительнее, Вадим мстительно радовался, что вернётся домой качком.
Кратчайший путь к воде вёл мимо бальзаковских подруг. Чтобы щедрее предоставить жирное тело солнышку, одна из них, в ярко-синем бикини, вытащила лежак из-под сетчатой тени и поставила наискось; теперь пройти мимо, не пнув её жёлтые вьетнамки, было невозможно. Отдавать на поругание свои тощие ноги и жареную спину не очень-то хотелось, но делать неоправданный крюк было бы ещё глупее.
Вообще всё было глупо… Он мог выбрать любое место на любом клочке территории этого задрипанного отеля. Но после того, как он безо всякого желания, на чистом оголтелом принципе провёл здесь несколько нудных часов, ему уже казалось, что это его личный лежак… И как-то обидно было покидать его только затем, чтобы сделать своё и без того гнетущее одиночество ещё ощутимей.
«Когда пойду обратно, – подумал Вадим, – придётся её обрызгать».
2
Смотрины, ну да, ну да… Что-то вроде полуночной телепередачи или, скорее, мистического опыта – о котором потом вспоминаешь не помня, уж больно не вписывается он в привычную канву бытия.
В первую секунду Вадима поразило, до чего же круглая голова у будущего зятя. Её идеальную шарообразность выгодно подчёркивала стрижка полубокс. Чуть ниже можно было увидеть дорогой галстук, а под ним – уже довольно заметное брюшко; тоже круглое, оно немного нарушало в целом безупречный имидж Ильдара.
На протяжении всего визита Вадим пытался, образно выражаясь, зарифмовать эти две круглизны. Он помнит, что пил, рюмку за рюмкой, презентованный ему Танькиным кавалером «Чивас Ригал», не чувствуя вкуса и, что самое противное – не пьянея.
Параллельно он не уставал видеть себя глазами дорогого гостя. Странный осовелый пожилой осёл с оловянными глазами и деревянной улыбкой. Троянский осёл. За праздничным столом – Катя расстаралась, как для родного, – будущий зять завёл что-то о «цеховой солидарности». Из штанов выпрыгивал, ища общую тему, что-то такое, что разом сплотило бы всех. Все мы труженики одного цеха, с той разницей, что вас ноги кормят, а меня… – тут он явно собирался сообщить о себе что-то самокритичное. Но не успел – Вадим, впервые за весь этот безумный вечер, оборвал его на полуслове. Пардон. Какие ещё ноги?! Я – главный редактор отдела Интернет-проектов, а если и ковыряю иногда втихаря свой уютненький, так это моё сугубо личное дело.
Тронная эта речь оставила в её (всё-таки слегка захмелевшем) авторе ощущение того, что он длинно и грязно выругался, – и он обвёл аудиторию агрессивным взглядом, готовясь и почти желая быть выкинутым из-за стола. Мимо. Жена всё так же озаряла стол сияющей, влажной улыбкой, часть которой перепадала и Вадиму – видимо, из соображений экономии. Ильдар Камилевич вещал что-то о том, что да-да, конечно же, читал и вообще живёт от поста до поста. И только в глазах дочери, когда он поймал её взгляд, мелькнуло что-то вроде обидного сочувствия. Но тут же ушло. Слишком счастлива она была.
В ту ночь она впервые уехала с Ильдаром – он увёз её на своей синей «субару-рару-ра», чтобы сделать с ней то, на что теперь имел право благодаря всем соблюдённым формальностям.
На сей раз обида сменилась болью ещё до того, как он успел плюхнуться в воду. Общаться с морем в одиночку было невыносимо. Хотелось по-детски изумляться, ловить рыбок руками – Вадим будто забыл, что ему под полтос, а сзади смотрят любопытные бальзаковские дамы. Но, поддавшись импульсу, тут же ухнул в ледяную пустоту, ничего общего со студёной глубиной не имеющую, – и, с трудом выкарабкавшись, больше так расслабляться не рисковал.
Солнце, пальмы, далёкие зеленоватые скалы – это было даже хуже, чем необходимость самому себе чесать зудящую задницу… пардон, спину.
Собравшись с духом, рухнул в холодную – с непривычки – воду и, не дожидаясь, пока согреется, поплыл вдоль пирса размашистым брассом. Ну что же это?.. Пальцы правой ноги предупреждающе трогает судорога – вот-вот скрутит немилосердно.
Представив себе скорбное лицо зятя, получившего горестную весть, Вадим ухватился за буёк и некоторое время отдыхал, пережидая. Шлейф самолёта в небе – и белый катерок вдали – и зависший над морем яркий парашют – и чудовищный акцент аниматора с соседнего пляжа под навязчивый мотивчик – «ооопа-опа – опа-опа!» – всё, всё мучило его, издевалось над ним.
3
– …Но, пап, ведь так оно и есть. Делай что хочешь, проси чего хочешь! Они там сейчас за каждого гостя трясутся, поэтому и люкс тебе дали!
Это он похвастался, что иногда чувствует себя хозяином Yellow Dolphin Resort‘а. Хоть часами бегай туда-сюда по своим владениям. И ночью никто под окнами не блажит, спать не мешает. Лепотааа!
За шутливым тоном Вадим прятал отчаянную тоску – ныть в открытую казалось ему слишком унизительным. Но, видимо, прятал неумело:
– Ну а чего ты хотел? Эти идиоты своими революциями туризм напрочь угробили, неизвестно теперь, подымут ли. Да ещё теракты эти, помнишь, недавно был сюжет…
В окошке мессенджера их лица казались чужими и какими-то… ненастоящими. Зато книжный шкаф – как наяву, аж до жути. Сейчас бы просто шагнуть туда – и… Лет через двадцать-тридцать, наверное, и такое изобретут. Он, Вадим, может, ещё доживёт.
Хотел показать и свой люкс – да не удалось: солнце слишком яркое, как ни крути планшетом, дамы видят сплошной белый квадрат. Пришлось так, на словах описать, что балкон его с могучей мраморной балюстрадой выходит прямиком на море.
– Ещё и на море?! Красааавчик! Ну вот почему нам так никогда не везёт?! У нас однажды вообще окна на помойку выходили, скажи, мам?..
Слышать интонации дочери, сюсюкающей с ним, как с тяжелобольным, было невыносимо. Если бы ещё вчера Вадиму сказали, что он, говоря с родными, сбросит не дослушав, он бы плюнул фантазёру в лицо. Но всё когда-то случается в первый раз.
Столовая была в сборе и дожидалась только его прихода. Как всегда, открыв стеклянную дверь, Вадим ощутил на себе знобкий холодок чужого внимания, невольно отметил – вот за угловым столиком как бы незаметно перешли на шёпот, а за другим, что наискосок, нервно прикрыли глаза – и тут же украдкой, с жадным любопытством начали его разглядывать. Это не удивляло Вадима – он давно понял, что быть ему, одинокому страннику, нынче секс-символом «Елодола».
«Женщинам легче, – мелькнуло в голове. – С ними всё сразу ясно и никто не осуждает. Наоборот даже – одобряют с гиканьем.»
Чувствовать себя местной знаменитостью и приятно, и гадко. Особенно ему, коренному жителю мегаполиса. Всякий раз, входя в столовую, он ощущал себя раздетым.
Впрочем, он знал, что и сам ничуть не лучше. Наблюдения за соседями и праздные выводы об их личной жизни были главной статьёй досуга в этом тухлом местечке. Он отличался от них разве что тем, что ему не с кем было посплетничать. Меж тем поводы для пересудов, а иногда и насмешек давали все.
Тут собрались отъявленные смельчаки России, не боящиеся ни санкций, ни терактов. Их было немного – числом девять; Тосабела знал всех в лицо, потому что в эти минуты в столовой собирался полный кворум – ради такой скудной клиентуры никто не стал бы держать ресторан открытым с часу до трех.
Без аппетита уминая невкусный обед, он косился на соседний столик. Старые знакомые, престарелые подруги в ярких парео надыбали где-то по коктейлю – и теперь вели красивую жизнь, жадно всасываясь в пластиковые соломинки. Даже в депрессии оставаясь художником, Вадим бессознательно отметил, как удачно рифмуется апельсиновое пятно «ром-фанты» с огромной заколкой-цветком за ухом одной из дам – крупной, вульгарной, с ниспадающим на жирную спину пышным каскадом выжженных до белизны волос.
4
«А ведь я и вправду мог утонуть сегодня… Представляю, какой бы он поимел себе с этого навар. Долго рыдал бы, а потом увеличил моё фото с паспорта и повесил над сервантом. Своими руками. Как и подобает редактору глянцевого журнала. Надел бы чёрный пиджак. Зажёг свечи. И регулярно заставлял бы осиротевших женщин (а потом и детей, а потом и внуков!) чтить мою память».
В том, что однажды всё будет именно так – или почти так, – Вадим не сомневался. Но это его ничуть не радовало. Мысль о том, что и после смерти его, Вадима, заставят работать на авторитет зятя в семье, выводила из себя.
Как-то странно, думал он. Я – убеждённый материалист. А, значит, выражение «я умер» для меня – нонсенс. Смерть в моём понимании – это как бы место (или время), где меня нет. И даже так: место, куда я никуда не попаду.
Я никогда не узнаю о своей смерти. А, значит, для меня её как бы и нет. Вот и хорошо.
Но вообще-то, знаете ли, это как-то несправедливо. Для других-то я вовсе не исчезаю бесследно! И что же получается? Сам я не могу встретиться со своей… заметьте, своей! – смертью, – а какой-то вшивый Ильдар Камилевич, муж моей дочери, которого я ещё год назад знать не знал и знать не желал – с нею встретится? Да ещё и будет пользоваться в своих личных целях ещё много-много лет?!
Вадим чуть не подавился. Он вдруг понял, что особенно беспокоит его в материалистической концепции смерти, к которой он всегда склонялся больше, чем к сомнительной идее бессмертия души.
– Согласитесь, – мысленно спорил он сам с собой. – Раз уж я умираю целиком и полностью, было бы куда логичнее, если бы этот «я» исчезал и для других. Да-да, в той же мере, как и для самого себя! Исчезал бы во внешнем мире – точно так же, как и в том… внутреннем. Плоды моих рук и прочих оконечностей, так и быть, оставим – раз у них уже сложилась какая-то своя, независимая от меня жизнь. Как вот у Таньки… Пользуйся, Ильдар! Но память обо мне должна исчезнуть – в той же мере, как исчезаю я! То есть – абсолютно!
– Да, – продолжал размышлять Вадим, – это было бы справедливо. Только тогда и можно было бы говорить о таком явлении как «смерть». Пустое место, несомненно, всё равно ощущалось бы людьми (скажем, Татьяна продолжала бы теоретически знать, что когда-то у неё был отец). И порождало бы множество загадок – как, впрочем, порождает их смерть и сейчас. Но это были бы совсем иные загадки, и только они и имели бы право называться загадками смерти. Та же ерунда, что мы имеем сейчас – всего лишь вопрос отсутствия равновесия, если угодно – несправедливости.
Может быть, именно это до сих пор и мешает человечеству окончательно поверить в смерть. Это в нашей-то Вселенной, где всё так хорошо пригнано и прилажено, и на каждое число есть точно такое же отрицательное с другой стороны от нуля…
Какой же я всё-таки умный, подумал он, уже вполне уверенно взглянув на даму с заколкой. До такой оригинальной мысли сам дошёл. Отличная тема для блога!
5
Жена часто прохаживалась, что, мол, «его» дочка будто нарочно забрала себе все самые сомнительные черты со всех возможных сторон. Сама Катя, конечно, была составлена совсем из других запчастей. Но лучше б она молчала.
Им всем когда-то читали на уроке литературы стихотворение Николая Заболоцкого «Некрасивая девочка»; много лет спустя, наткнувшись на него в каком-то древнем альманахе, Вадим испытал почти мистический ужас – как будто поэт, умерший гораздо раньше появления на свет не только Таньки, но и самого Вадима, каким-то чудом заглянул в будущее и подглядел там, как его маленькая дочь носится по двору с мальчишками:
«…Колечки рыжеватые кудрейРассыпаны, рот длинный, зубки кривы,Черты лица остры и некрасивы…»Это был почти фотографический портрет восьми-, девяти-, десятилетней Татьяны Вадимовны Тосабела. Но кое-в-чём Заболоцкий всё-таки оказался неправ. Как видно, поэты и любящие отцы заблуждаются, думая, что «младенческая грация души» – вещь тонкая и видна только им.
Уже тогда его рыжий лягушонок отнюдь не страдал от нехватки вокруг себя пацанов – с велосипедами и без. На даче они были у многих. А к двенадцати годам, когда Таню пустили в Интернет, она и вовсе увешалась ожерельем из поклонников, какое иной девушке приходится наматывать на себя в несколько слоёв, чтоб не свисало до пуза.
Впрочем, тут была скорее заслуга Вадима как фотохудожника. Он-то всегда знал, что его дочь красива – даже когда с этим не соглашались ни поэт Заболоцкий, ни родная мать.
Он со страхом думал о том времени, когда Татьяна начнёт превращаться в женщину: как бы этот «огонь, мерцающий в сосуде», подрастая, не спалил парочку соседних деревень. Оттого и не жалел денег на её загадочные «хобби». Пусть хоть чем-то будет занята, меньше останется времени на глупости…
Катя в свойственной ей манере подкалывала, что, мол, дочка не зря выбирает такие специальные места, где пасутся мальчики. Вадим дорого бы дал, если б это было так. Но жена ошибалась – впрочем, как обычно.
Танька всегда была лёгкой на подъём, но легкомысленной – никогда. Эти вещи так легко перепутать даже любящему родителю. Разницу замечаешь, только когда дорогое тебе существо уже успело ушагать далеко-далеко… твёрдой, уверенной поступью Командора…
6
Сзади обсуждали елодольскую кухню. Кошмар! Кормят отвратительно, каждый день одна и та же рыба, кажется это сом, то в кляре, то без ничего – это они так создают нам иллюзию выбора. Хорошо хоть курицу на ужин дали. А в обед вообще одно мясо, да прожевать невозможно, в зубах всё застревает – и картошка у них тут отвратительная, даже удивительно, что можно так испортить обычную картошку, это что ж с ней такое делать надо…
– Ну а чего же вы хотите за такие деньги?! Соотношение «цена-качество». Брали бы пятизвёздочный, там и кормят вкусно, и пепельницу каждые пять секунд меняют…
Это, видимо, и были те самые «тролли», о которых говорила сегодня в скайпе Танька. Невесть почему она обожала Елодол и пропускала через себя его печальную судьбу: – И ты представляешь, пап, они специально гадили в отзывах, пришлось даже сайт прикрыть, вот никто и не едет! А отель хороший, правда? Такая энергетика! Мне там такие чудесные сны снятся, а ты ведь знаешь, я в чужом месте очень плохо сплю…
За энергетику Вадим не сказал бы – отстаньте от материалиста. Но доля правды во всём этом была. Отель оказался очень уютным. Что-то домашнее, несовременное было в его мягких диванчиках и креслах в холле ресепшна, пышной, увивавшей балконы и террасы бугенвиллее и глиняных фонариках, зажигавшихся при наступлении сумерек. Унылый хай-тек, ненавистный Вадиму не только в командировках, но и в гостях у друзей, был сведён здесь к минимуму, но не было и навязчивой азиатчины, которая раздражала бы его, наверное, даже сильнее.
Что до кулинарии, то ему было наплевать. Он не был гурманом, к тому же понимал, что политические события последних лет и впрямь сильно ударили по туристическому бизнесу – тут уж не до разносолов.
Вадим попытался по голосу определить троллей. Хаять любимый дочкин отель могли только неприятные ему люди. Он угадал. Критиком оказался Вентилятор – один из самых противных гостей дивного Елодола. Этот хмырь к тридцати, что ли, годам почему-то так и не научился разговаривать по-человечески – или орал или махал руками во все стороны, видимо, пытаясь занять побольше места в окружающем пространстве.
Его оппоненткой была милая девушка лет сорока пяти: сарафан, обгоревшее декольте, бровки домиком. Несмотря на миловидность, Вадиму она не нравилась. Он имел дело с такими, ему был знаком этот лучистый взгляд и доверчивые, удивлённые нотки в голосе: «Ну как же так нет? Я же хочу! Я ведь женщина, мне положено!»
Убей бог не помнил, откуда знает её имя, но он его знал. Эта милейшая Лара с таким азартом вгрызалась в собеседника, что становилось даже как-то неловко за её супруга – добротного мужика из тех, что приходят в ресторан чисто пожрать, а на море – чисто поплавать.
У вентилятора тоже была жена, она и сейчас сидела тут. Но молчала. Строго говоря, молчала она всегда – по крайней мере Вадим ещё ни разу не слышал от неё каких-либо присущих обыкновенным женщинам звуков. Совсем юная, прозрачная. Вадим поначалу думал, что на неё так действует присутствие экстенсивного супруга – всё по тому же открытому им недавно закону вселенского равновесия. Но как-то раз она пришла на завтрак одна – муж то ли перегрелся, то ли временно оглох от собственных воплей, – и она всё так же тихо, аккуратно ковыряла маленькой ложечкой творог, опустив глаза в тарелку и не замечая никого вокруг.
Вадим даже подумал тогда, что, если б не чёртов Вентилятор, он, пожалуй, приударил бы за ней – платонически, конечно, платонически.
Разного рода курортные и командировочные романы вызывали у него брезгливость. Но тут пришлось признать, что здешний воздух вкупе с жарой делает воздержание мучительным. «Что б вам, добрякам, в Таиланд отправить старого отца. За нравственность мою, что ли, побоялись?» – со злобой думал Вадим, последним покидая опустевший ресторан.
7
«Мы пойманы в ловушку – капкан своей жизни, и нам из него никогда не вырваться. Крохотный островок обнесён глухим забором, и моря не увидать. Эх, купаться надо, купаться почаще, раз уж приехал! Ну и что, что не хочется? Заставляй себя.
Кстати об островке. Это способно вызвать куда острейший панический приступ, чем ужас перед тем, что находится ЗА пределами. Мы обречены на самих себя, и спасения ждать неоткуда – нельзя надеяться даже на смерть, которая, по сути – всего лишь то, что не я, всё, кроме меня.»
Мысли о смерти одолевали, как правило, ночью – когда особенно силён становился и зуд, из-за которого он, собственно, и не мог заснуть. (Ворочаясь без сна, Вадим кстати обнаружил, что дешёвые синтетические простыни неприятно скребут ему кожу; он злился, обзывал себя принцессой на горошине, но привыкнуть к дискомфорту не мог – и это снова возвращало к мыслям о зяте, сославшем его в этот чёртов Елодол).
– А ведь я уже лет десять подобным не развлекался, – с удивлением обнаружил Вадим. – И не потому, что страшно, а просто как-то… недосуг. Ну вот, здесь-то времени на всё хватит.
Если б ещё смерть была чем-то вроде вечного сна… Ведь можно не видеть, не слышать, не чувствовать, и при этом всё-таки существовать (ну вот как под сильным наркозом). Такое состояние, будучи присуще всё-таки нам лично, при этом существенно отличалось бы от (нашего же) состояния «жизнь». Таким образом мы и впрямь оказывались бы в рамках успокоительной диады «жизнь – смерть» (так же как и «день – ночь», «зима – лето», «работа – отпуск» и тд.), и, устав от тягот бытия, могли бы рассчитывать на избавление, на заветный отдых.
Но увы.
Пока тело сохраняет хоть какую-то форму, его статус ещё можно с натяжкой назвать «сном». Но что делать, когда оно распадётся на атомы? Очень соблазнительно допустить, что тут-то и вся загвоздка, что, скажем, мумия хоть и не просыпается, но всё же в какой-то форме существует для себя самой, пока выглядит «почти как живая». «Почти как» – разве это не остроумнейшее определение отличия смерти от жизни? В таком случае, чтобы хоть немножечко побыть мёртвым, нам остаётся только одно – договориться с роднёй обо всех неприятных подробностях.
Тут возникает очередной соблазн – допустить, что мы ещё можем воспринимать хоть крохотную, да информацию о себе и мире, пока в нас остаётся хотя бы одна живая клетка. Волосы, к примеру, растут ещё долго… Но нет. Хоть жизнь какой-нибудь амёбы по сравнению с человеческой и кажется не совсем полноценной, а всё-таки она – никак не смерть, и, если мы идём по этому пути, нам остаётся только признать, что абсолютно всё, что существует во Вселенной, вплоть до последнего атома – та или иная форма жизни. А, стало быть, смерти не существует как таковой. И вот мы опять вернулись к Богу…
И к Таньке.
Когда-то они могли часами рассуждать о подобных материях. Маленькая Танька была отчаянной буддисткой – или как там ещё это назвать. Она утверждала, что помнит свои предыдущие реинкарнации, и Вадим честно выслушивал и кивал, а потом пытался оппонировать – без особой, честно говоря, настойчивости. Её доверие было ему гораздо важнее истины, какой бы та вдруг ни оказалась.
– … Знаешь, пап, а в прошлой жизни я рано умерла…
– Угу. Тоже без шапки в мороз ходила, наверное…
– Неа. Повесилась.
– Вах, какие страсти. Несчастная любовь?!
– Вот ещё… Так, назло. Меня розгами выпороли. Перед всем классом. Ну, я тогда мальчиком была…
– Упс. Надеюсь, в этой жизни тебя к девочкам не тянет?
Танька злилась:
– Ну, пап… Это ж когда было-то…
Он сам не мог бы сказать, хорошо это или плохо, что Танька ни разу не «вспомнила» себя ни знатной дамой, ни сожжённой на костре ведьмой из фэнтази, ни какой-нибудь исторической личностью. Её прошлые воплощения были самые что ни на есть рядовые, полные нелепостей, ошибок и тягот жизни. В доказательство она приводила скучные, вгоняющие в депрессию бытовые подробности, вроде ряда нечистых ночных горшков в длинной тесной комнате, зазубренных ножниц на дощатом столе, керосинок, обоев с розами, – детали, которые иногда вызывали у него неприятное чувство, что, возможно, этот, да и тот мир и впрямь изучены не так тщательно, как он надеялся.
Но, так как доказать здесь ничего невозможно, говорить на все эти темы можно было часами. Но, так как чувство юмора она взяла у него, у них не было даже того простого выхода, который в таких случаях выручает почти всех – обидеться и заткнуться. Так что прерывала их обычно Катя, которая эти беседы активно не одобряла:
– Нашёл о чём разговаривать с ребёнком! О смерти?! Спросил бы лучше, чем она живёт, как дела в школе, что интересного произошло за день…
Это она зря, – Вадим злорадно вспомнил, что в роли мудрого старшего товарища Катя всегда была бесполезна, беспомощна и, если уж идти до конца, абсолютно бездарна. Особенно когда их дочь превратилась-таки в подростка.
8
В ту пору она могла часами разглядывать себя в зеркалах, выискивая те самые «уродливые родовые черты» и ноя, ноя. Вадима это бесило – может быть потому, что он помнил себя в этом возрасте, вот уж он-то и вправду был урод, но справлялся с этим один, без посторонней помощи.
Он подозревал, что дело тут нечисто, что цель её – не только снять урожай сразу по двум номинациям (красоте и скромности), но и выцыганить у отца очередную цацку. Мысль об этом вызывала у Вадима детское, но неодолимое желание не отдавать ни пяди.
Ему ещё предстоит умирать от стыда и ужаса за свою слепоту и жестокость; но тогда он только ухмыльнулся, услышав, как жена воспитывает дочку:
– …Думаешь, это счастье приносит? Нет, моя милая. Красота – это тяжкое испытание. Ты – весёлая, общительная девочка, и слава богу. Говорят ведь – не родись красивой, а родись счастливой, – в Катином голосе звучала скорбь, смирение и миссионерская готовность нести и дальше с гордо поднятой головой этот крест, который жестокая судьба взвалила на её плечи, великодушно пощадив юную поросль.
Она и впрямь была красива – сейчас, как и двадцать лет назад. Её великолепная женственность до сих пор волновала и даже изумляла Вадима. В возрасте Таньки она была тощей, голенастой, глазастой девчонкой. В красном галстуке на чёрно-белых фотках. Этих фотографий Вадим никогда раньше не видел, откуда они вывалились именно теперь?.. Катя объяснила – родители затеяли ремонт, разгребают антресоли.
Оттуда же, видимо, выползла и старая гитара. Ещё один сюрприз – приятный или нет, будет видно. У Кати оказался абсолютный слух и контральто с волнующей хрипотцой. Розенбаум был её кумиром, и Вадим не видел ничего странного или неподобающего в том, что она, с трудом припоминая заученные в юности три аккорда, всё чаще замахивается на смертельный номер из своего скудного репертуара:











