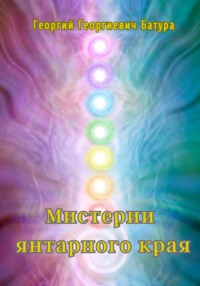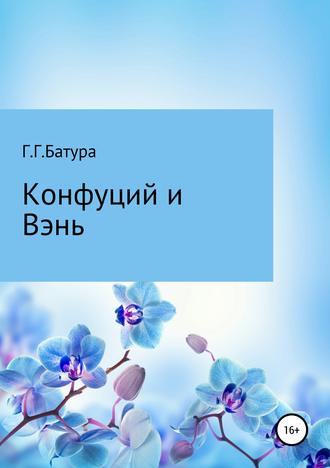 полная версия
полная версияКонфуций и Вэнь
Любой «перевод» иероглифической конструкции будет выглядеть всегда обедненным по сравнению с его «рисунчатым» текстом. Например, в нашем суждении это видно хотя бы при рассмотрении иероглифа цзинь (БКРС № 667), спектр значений которого можно представить следующими словами: «почтительный», «истовый», «ревностный», «усердный», «добросовестный», «внимательный», «осторожный», «уважительный». И какое из всех этих значений следует выбрать для создания привычной для европейского читателя «однозначности» перевода? Мы для своего перевода выбрали слово «ревностный», но при этом вовсе не уверны в том, что этот вариант наилучший.
Еще раз повторим прежнюю мысль: в нашем европейском восприятии этот иероглиф состоит из значений «отдельных атомов», а древний китаец видел в этом цзинь сразу же все его значения в целом – в одном мысленном схватывании. Исходить из принципов такого понимания текста современный человек не способен в силу принипиального отличия своего «мозгового устройства». А следовательно, ни о каком «одинаковом» с Конфуцием понимании текста – даже при подробнейшем его объяснении, как это делается сейчас – речи быть не может. Мы, сегодняшние, и те древние – совершенно разные. И самое главное здесь то, что в нас уже давно нет синь – «веры в духов». Мы можем переводить и понимать этот текст только как школьник, который пытается «понять со словарем» сложную иностранную книгу, языка которой он не знает. Это и есть – все без исключения «переводы» Лунь юя. Единственный способ подняться над всеми этими «мозговыми» проблемами и в прямом смысле слова «занырнуть в существо» книги – это самому получить духовный опыт «выше» опыта Вэнь, например, опыт «Царства Небесного». Другого пути правильного восприятия и понимания этой книги нет и никогда не будет.
Итак, мы вроде бы прекрасно разобрались с этим суждением, однако у внимательного читателя осталось некоторое сомнение относительно правильности понимания начальных слов Учителя. И действительно, почему «младшие братья» и «сыновья» поставлены рядом? И почему «младшие братья» вдруг оказались перед «сыновьями», а не после них, что было бы более логичным? что́ объединяет эти две категории? И не включает ли само понятие «сыновья» одновременно и «младших братьев»? И почему «сыновья», выходя из дома, должны вести себя как «младшие братья» наравне с этими действительно «младшими»? Просто чепуха какая-то. И неужели этим несмышленым пока «младшим» уже надо что-то знать про человека-Жэнь, и даже почитать его, да вдобавок к этому еще пытаться «подражать» Вэнь-вану? В таком возрасте ребенок обычно более склонен играть в игрушки, резвиться и шалить (и даже сам Конфуций в этом возрасте тоже играл в «игрушки», хотя и ритуальные).
Мы уже отмечали, что Конфуций – это великий психолог. И неужели он мог допустить в своем высказывании такие оплошности? Конечно, не мог, а значит, мы сами здесь что-то понимаем неправильно. Но не стоит особо отчаиваться: правильного понимания этих слов суждения нет и у всех остальных комментаторов, начиная с древнейших времен Китая. Традиционные переводы сводятся к выражениям типа: «младшие», «молодые люди», «дети», «юноши» и т. д., т. е. все комментаторы просто уходят от решения этой проблемы.
И мы могли бы сделать то же самое, следуя их примеру, тем более что в данном случае это не так принципиально. Но далее, по тексту других суждений, подобные переводческие «ляпсусы» могут не только компрометировать в глазах читателя прекрасные логические способности самого Конфуция, но главное заключается в том, что при таких «переводах» мы можем просто потерять то важное, о чем хочет сказать Учитель своим ученикам. И поэтому именно на этом простом примере мы попытаемся хоть как-то объяснить читателю некоторые премудрости методов ведения разговора Конфуцием, а заодно и немного углубимся в китайскую традицию составления текстов.
До настоящего времени предлагаемые нами переводы отличались от традиционных только тем, что вместо общепринятых значений тех или иных иероглифов мы подставляли другие, как правило, более древние и более соответствующие истинному духу Учения, всецело обращенному к традициям Раннего Чжоу. То есть мы просто брали другие словарные значения того же самого иероглифа или производили с ним рекомендуемую самим Конфуцием процедуру «исправления имен» (чжэн мин, букв., «делать имена прямыми», «выпрямление имен»). Сейчас ситуация несколько иная.
Вот как комментирует это рассматриваемое нами место один из наиболее известных исследователей Конфуция Л. С. Переломов (Конфуций. Лунь юй, М.: «Восточная литература» РАН, 2000, стр. 300):
В тексте термин ди-цзы – досл. «младшие братья и сыновья». Обычно комментаторы указывают на два его значения: «молодой человек, молодые люди» и «учащийся». Однако известно, что во времена Конфуция в общинах существовало устойчивое понятие: цзы-ди – «сыновья и младшие братья», так называемое молодое поколение патронимии в отличие от старшего – фу-сюн («отцы-старшие братья»). Не исключена и возможность того, что при многократном переписывании текста переписчики могли ошибочно поменять иероглифы местами <…> Поэтому допустимо и третье значение этого термина – «сыновья-братья».
Да, но в тексте, все-таки, однозначно зафиксированы «младшие братья». Когда мы рассматривали суждение 1.2, мы видели, что этот иероглиф означает именно «младших».
Одной из важнейших особенностей вэньяня (мы оставляем в стороне современный китайский язык) является широкое распространение омонимов. Не будем вдаваться в тонкости этого вопроса, повторим только, что омонимы – это такие иероглифы, которые произносятся одинаково, хотя их графика и их значения различны. И таких омонимов в вэньяне – в десятки (а скорее всего в сотни) раз больше, чем, например, в языке русском. В живой разговорной речи понять, какой именно иероглиф (слово) имеет в виду собеседник можно только из контекста, т. е. из тех устойчивых словосочетаний или фраз, которые хорошо известны беседующим. Например, одним из таких устойчивых словосочетаний в древнем Китае было выражение «верить в духов» (синь шэнь), и поэтому слово «духи» могло опускаться (во-первых потому, что это действительно было известное всем выражение, но опускалось это слово также по той причине, что древние остерегались всуе тревожить потусторонний мир своим словесным «вызыванием духов»).
Китайская историческая традиция в лице своего главного историка Сыма Цяня утверждает, что все высказывания Конфуция (записанные на бамбуковых планках или на шелках), которые после смерти Учителя собрали и составили его ученики, – причем, вполне вероятно, что существовало несколько разных версий Лунь юя, – были сожжены при императоре Цинь Шихуане (объединил китайские княжества в единую империю и недолго правил в III в. до н. э.). А все известные ученые-конфуцианцы (числом несколько сотен) были заживо закопаны в землю. Тем самым была прервана живая традиция передачи как самого текста Лунь юй, так и его комментирования. Тот Лунь юй, с которым мы сейчас имеем дело, – это текст, восстановленный по памяти случайных людей и записанный уже «новыми письменами», а затем, еще через столетия, – переписанный во время династии Хань уже стандартным письмом кай шу.
Но вполнен вероятно – и такое предположение уже давно высказывалось исследователями, – что все рассуждения о гонениях Цинь Шихуана на конфуцианцев – это только более поздние фантазии китайских придворных ученых. Сочинение подобных «басен» было необходимо для того, чтобы хоть как-то оправдать такую совершенно немыслимую в развитом обществе абсолютную утрату как текста, так и смысла Учения того человека, которого Китай стал превозносить в качестве своего главного Учителя нации.
Но может быть, подумает читатель, это было сделано с той целью, чтобы скрыть от всего народа целенаправленное искажение смысла Учения, которое преступным образом было преобразовано в «подходящее»? Бесспорно то, что из этих двух версий вероятнее первый вариант, – тот, что в подобном «непонимании» текста отсутствует хоть какой-то злой умысел. Если Конфуция не понимали уже не только его современники, но даже ученики – а это наглядно демонстрирует сам текст Лунь юй, – в таком случае что́ можно было ожидать от тех, кто жил через столетия после Конфуция в уже совершенно другом Китае?
В любом случае, сначала имело место непонимание смысла, а затем этот во многом «непонятный» текст был перезаписан новыми знаками «со слуха». И естественно, что в процессе такого «восстановления» (или перезаписи по памяти) главной ошибкой была такая, что вместо истинного первоначального иероглифа записывался его омоним. Но даже не это является сейчас определяющим. В древних текстах стандартны такие случаи, когда омоним сознательно ставился на место истинного иероглифа и как бы принимал на себя значение этого истинного. Часто это объяснялось тем, что омоним был проще в написании или более распространен в языке. А сами китайцы склонны были видеть в омонимии внутреннюю смысловую близость иероглифов.
Для подтверждения этих слов приведем первое суждение Лунь юя в переводе В. М. Алексеева и с комментариями Чжу Си, которые до сегодняшнего дня считаются наиболее авторитетными (Беседы и суждения Конфуция. СПб.: ООО «Издательство “Кристалл”», 1999, стр. 910, 912):
1.1. Он сказал: «Учиться и при том все время в усвоенном упражняться…».
«Учиться» – значит, подражать… (комментарий Чжу Си – Г. Б.).
И далее следует примечание В. М. Алексеева: «Элементарный прием элементарной пока еще “китайской филологии” заключается, между прочим, в том, что при объяснении термина берется фонетически измеримое с ним слово и внушается мысль о невольном сближении семантическом (смысловом). Доказательств и общих принципов (“законов”) обыкновенно не приводится. Филологу XII в. (Чжу Си – Г. Б.), сопоставляющему здесь Сюэ и сяо (в то время более близкие по звуку), это более извинительно, чем нынешним китайским филологам».
Но это было «извинительно» и во времена Раннего Чжоу, когда, например, важнейшее понятие Дэ («благодать») на регулярной основе уравнивалось и обыгрывалось в смысловом отношении с его омонимом дэ – «получать», «найти». В. М. Крюков в книге «Текст и ритуал» (стр. 21, 23) описывает другой характерный пример омонимии в текстах Раннем Чжоу. Вот что он пишет:
Древнекитайские надписи на бронзе – это всегда надписи ритуальные (курсив авторский – Г. Б.) <…> Очень многие инскрипции завершаются фразой о том, что изготовленный сосуд «будет использоваться в качестве сокровища (бао) поколениями детей и внуков на протяжении десяти тысяч лет».
Ключом к пониманию приведенной ритуальной формулы является слово бао («сокровище»). О семантике данного знака можно судить по его графической форме. Он представляет собой изображение нефрита (юй) и раковины (бэй) под крышей <…> Древние китайцы издавна почитали нефрит и раковины каури как драгоценность, приписывая этим предметам священные качества <…> Понятие бао – это «сокровище» в буквальном смысле, т. е. нечто подлежащее сокрытию, схоронению <…> Синонимом бао в языке раннечжоуских цзиньвэнь (надписи на бронзовых сосудах) являлся омонимичный термин бао – «хранить», «оберегать». В инскрипциях на бронзе эти две категории были взаимозаменяемы.
Отметим, что рисунок омонима «хранить», «оберегать» принципиально отличается от рисунка «сокровище». Иероглиф «хранить» состоит из ключа «человек» (жэнь) и, справа от него, знака «дерево» (му) с рисунком «ограды» сверху (графически подобен иероглифу «рот-прямоугольник»).
То есть речь в данном случае не может идти о том, что древние комментаторы, в том числе текста Лунь юй, были «примитивными филологами» (к чему склоняется В. М. Алексеев); речь идет об исторически сложившейся картине понимания иероглифического письма у того народа, который изначально являлся (и является) его носителем. И такой совершенно законный и освященный традицией способ могли взять на вооружение – причем, совершенно искренне! – те мужи-комментаторы, которые создавали традиционное понимание текста Лунь юй для государства. При очередном переписывании обветшавшего свитка они вместо первоначального иероглифа могли поставить его омоним.
Зададим себе вопрос: а каковы, все-таки, были основные принципы происшедшего смыслового перекодирования текста Лунь юй? Ответ ясен, и здесь не возникает ни малейшего сомнения: все то, что было связано с ритуалом и с жертвоприношениями предкам – тем предкам, через которых и Раннее Чжоу, и сам Конфуций черпали силу Дэ, – всё это секуляризировалось, т. е. переводилось на рельсы всецело социальных понятий и взаимоотношений. Потому что в обществе исчез интерес к самому Дэ, а значит, и необходимость в обращении к духам предков. В духовном отношении аристократы превратились в тех плебеев, для которых «духовных истин» не существовало. В Китае произошло фактическое духовное «вырождение нации».
Итак, в рассматриваемом нами суждении имеет место, судя по всему, случай замены самого иероглифа: поставлен омоним вместо истинного. Сама логика этого суждения подсказывает читателю, что оно должно быть обращено к какому-то достаточно ограниченному кругу лиц, а не ко всем «младшим братьям (ди) и сыновьям (цзы)», хотя самого этого слова – того, которое бы ограничивало этот круг, – мы здесь не видим. И если рассматривать этот текст с грамматической точки зрения, то функцию или роль такого «ограничителя» как раз и мог бы играть этот самый иероглиф ди, который в имеющемся тексте стоит как бы «не кстати».
Если мы обратимся к Словарю, – сразу же найдем подходящий по смыслу омоним. Это ди (БКРС № 6556) – иероглиф, состоящий из ключа «алтарь» и известного знака ди – «господь», «правитель», «предок», который входит в иероглиф Шан ди – «первопредок» (высший глава сакрального пантеона династии Шан-Инь). Выбранный нами омоним имеет следующие значения: «*большое жертвоприношение в храме предков», «*совершать обряд жертвоприношения», а также это слово входит в словосочетания «*совершать жертвоприношение душам царственных особ» и др.
Подставив этот омоним в текст суждения, получим следующие необходимые нам значения: «сын, имеющий право совершать обряд жертвоприношения», или «молодой человек, имеющий какую-то категорию доступа к жертвенному обряду». Кто именно являлся этим ди цзы? – Любой юноша, достигший определенного возраста? Или тот, кто прошел специальный отбор или посвящение? Мы этого не знаем, да это и не так важно. Важно то, что к такому молодому человеку уже предъявляются особые требования.
И далее по тексту уже понятно, что когда такой человек выходит из своего дома, – он должен быть ди, но не в качестве «младшего брата», а в качестве «совершающего жертвоприношение». То есть Конфуций требует от таких учеников, чтобы они не забывали этот обряд ди, и к своему поведению на улице относились так, как будто этот обряд они совершают постоянно: они должны постоянно видеть перед своими глазами «алтарь» и устремлять свои мысли к Верховному Первопредку (аналогом для христианина является «Отец»). Пусть на практике это реализуется только в виде «смирения» по отношению к тем случайным ситуациям, которые в обязательном порядке случаются с каждым из нас на улице. Это «смирение» в быту и «смиренное поклонение предкам» или «принесение своего смирения в качестве жертвы» было уже непонятно современникам Конфуция, не говоря уже о нашем сегодняшнем времени. Но без него – в ничто превращается вся духовная жизнь Раннего Чжоу, а с ней – и вся проповедь Конфуция о Жэнь и о Вэнь, как о духовных категориях.
И немного предвосхищая наше рассмотрение дальнейшего текста Лунь юй, необходимо как бы сориентировать читателя относительно характерных приемов проповеди Конфуция, – проповеди, которая направлена исключительно на достижение человеком состояния Вэнь. Если для евангельской проповеди Христа характерны притчи, которые скрывают смысл сказанного от духовно незрелых (и до тех пор, пока человек сам не поймет смысл той или иной притчи, – он остается таким «духовно незрелым»), то такими «притчами» у Конфуция являются его «нелепые» для понимания высказывания, сознательно основанные на использовании иероглифов, звучание которых подобно (омонимы). Мы не можем утверждать, что и рассмотренный нами пример идет не от самого Конфуция. Он что-то «говорил» своим ученикам (но не записывал!), а дальше – не уточнял значения того или иного спорного омонима. И уже то, что впоследствии было зафиксировано учениками, – он тем более не корректировал.
Вторым способом передачи смысла высказывания для Конфуция является прямое обращение к рисунку того или иного иероглифа (опять-таки, в качестве примера здесь наиболее показательно обращение к иероглифу Жэнь). Но сегодня разгадать такой скрытый графический смысл того или иного иероглифа гораздо сложнее, т. к. рисунки многих иероглифов претерпели принципиальные изменения и превратились в обычные «буковки» в европейском понимании этого слова. Главным требованием к письменности «после Конфуция» стал критерий четкого зрительного отличия рисунков иероглифов, а не их графическое соответствие описываемой реальности.
И, наконец, одним из главных ключей к пониманию сказанного, является «исправление имен», т. е. понимание иероглифа в его первоначальном смысле, – том, который он имел во время династий Инь-Раннее Чжоу (например, знак шан-«верх», который входит в иероглиф Жэнь).
Конфуций воспринимал иероглифическую запись как «видеосъемку» или как некий «киносеанс», где рисунки иероглифов, как кадры фильма в детском проекторе, следуют друг за другом непрерывной чередой, сверху – вниз. Для древнего человека, у которого не было ни фотоаппарата, ни фотокамеры, ни даже возможности или способа создавать многочисленные художественные картины или рисунки, отражающие окружающую действительность, иероглифическая запись представлялась каким-то чудом, – сродни нашему «цветному телевизору», когда он впервые появился в общественной жизни. И именно отсюда тянется нить к исключительному вниманию и любви китайцев к каллиграфии – к художественному изображению рисунков-иероглифов. Для самого Конфуция это была подлинная реальность, ожившая на бамбуковых планках (или на бронзе, на шелковом свитке). И это всегда была правда, открывающая дверь в мир духов.
Суждение 1.7
1.7. Цзы-ся сказал (юэ): «[Если] очень мудрый (сянь сянь, т.ж. «особо добродетельный») [человек] *держит в должном порядке (и, т.ж. «*быть в должном порядке») выражение своего лица (сэ); [если он] способен (нэн, т.ж. «мочь», «быть в состоянии») исчерпать до конца (цзе) свои (ци) силы (ли) на жертвоприношение (ши) отцу (фу) и матери (му); [если ради] жертвоприношения (ши) государю (цзюнь) способен (нэн) отдать себя целиком (чжи ци шэнь, букв. «вручить/дарить свое тело»); [если] *вступая в союз (юй) с духовным другом (пэн ю) *ведет *взаимное обсуждение (цзяо янь) [вопросов] и при этом (эр) имеет (ю) веру (синь) [в духов], – то даже если (суй) скажут (юэ), [что это] еще не (вэй) подражание (сюэ) [древним], я (у) непременно (би) назову (вэй) это (чжи) подражанием (сюэ)».
В самом начале этого суждения дважды поставлен иероглиф сянь, что грамматически означает сугубое, т. е. усиленное его значение. Иероглиф сянь содержит несколько различных положительных смыслов: «умный», «мудрый», «талантливый», «способный», «лучший», «добрый», «достойный», «добродетельный». Однако уважаемый Л. С. Переломов, например, неожиданно переводит начальную фразу суждения следующим образом: «Если кто-то в отношении с женой ценит ее моральные качества и не придает большого значения внешности…». А другой наш известный переводчик А. С. Мартынов переводит концовку этой фразы так: «…не придает значение внешней красоте»; ну а патриарх российского китаеведения П. С. Попов доходит даже до того, что видит в этой фразе уже нечто совсем «мистическое»: кто-то «из уважения к людям достойным отказывается от похоти».
Свят, свят, свят! Мы последнюю фразу из перевода П. С. Попова вообще не понимаем, а о жене в этом суждении не говорится «ни слухом, ни духом». Ну, да Бог с ним, с нашим П. С. Поповым. Вообще-то это очень хороший переводчик, – фактически, наш русский «ледокол» в понимании Лунь юя. Например, когда он говорит о поведении Конфуция во время сильной грозы, то переводит это так: «Одевал свою парадную одежду (то есть ритуальную) и сидел, как дурак», – ну, просто удивительно смелый и вообще-то очень правильный перевод на русский, если отбросить все условности относительно использования этого не совсем литературного меткого слова, взятого из народной лексики. Конечно, П. С. Попову простительно говорить (а точнее, переводить) о «похоти», т. к. в те далекие времена в России еще не существовало прекрасного четырехтомного китайско-русского Словаря академика Ошанина. Кстати, следует еще раз отметить, что Л. С. Переломов в своих переводах, как никто другой из отечественных, стремиться отразить традиционную точку зрения китайцев.
Но раз уж тема эта – о «жене» и о «похоти» – уже поднята, то сначала – некоторые общие рассуждения о «женщине» в Лунь юе. Как бы это нам начать поскромнее? – Женщина в этой Книге отсутствует, ее нет вообще, в принципе. Да и быть она там не может, исходя из духовной сути самого текста. И это закономерно: любой древний текст «райской» направленности женщину игнорирует, а Лунь юй – это ярчайший представитель того Учения, которое открывает человеку дорогу в Рай (пусть сам Конфуций и не знает этого «европейского» слова). В Раю (теософы называют этот мир «астральным»), в отличие от Царства Небесного, мужчины и женщины пребывают в виде «отдельных особей», как и здесь на земле. Об этом свидетельствует также известный факт существования «райских гурий» в исламе, – существ женского пола, которые есть ни что иное, как женщины для услады тех доблестных воинов, которые были удостоены райских обителей за свои ратные подвиги. А значит – если уж дело обстоит так, что и в этом и в том мире мужчины и женщины существуют порознь – значит, для достижения мужчиной Рая женщина не нужна.
По этой причине во всех традиционных древних религиях женщина всегда оставалась «на задворках» духовной жизни: ее удел – кухня, дети, сексуальные услуги. И, кстати сказать, эта последняя «функция» женщины широко эксплуатировалась в Китае, начиная с самых древних времен, причем, эта «индустрия» была развита, как нигде в мире. Она включала в себя узаконенный институт многоженства в виде содержания мужчиной дополнительных наложниц (кроме «законной» жены), наличие в городах многочисленных домов терпимости – на все вкусы и «кошельки», а также развитую сферу гомосексуальных услуг.
Причем, самой женщине полагалось жить только с одним мужем, и даже если после обручения (которое родители совершали в детском возрасте «жениха» и «невесты») жених умирал до свадьбы, сама церемония свадьбы все равно проводилась, невеста считалась «замужней» при давно умершем женихе и обязана была всю жизнь прожить в девах, вдовой. Более того, перед свадьбой девушку часто проверяли на девственность, для мужчины же было нормой, и это даже считалось заслугой, иметь сексуальный опыт до свадьбы. Рождение девочки в семье было не желанным, крестьянские семьи были бедными, и девочек, чтобы избавиться от лишнего рта, часто продавали в сексуальное рабство тем, кто зарабатывал на этом деньги. Именно таким образом «товар» – в виде девочек и мальчиков – поставляли в публичные дома. Китайцы познакомились с венерическими болезнями не ранее XIV в. н. э. (их наградили этой «радостью» европейцы), поэтому «тормозов» в этих вопросах не существовало. И ни о каком европейском «равноправии» между мужчиной и женщиной речи быть не могло.
Резюмируя можно сказать, что китайцы раньше других народов мира поставили все эти удовольствия «на поток», причем, – с истинно «русским размахом». И если китаянка и могла что-то требовать от того мужчины, который ее содержит, так это «сексуального удовлетворения». И такое право за женщиной признавалось всеми, т. к. она являлась, в первую очередь, «сексуальным предметом».