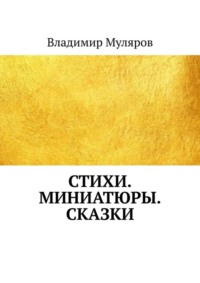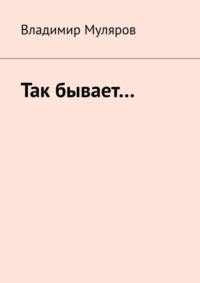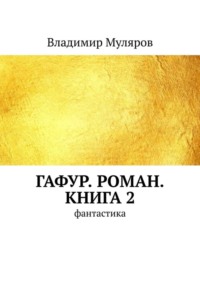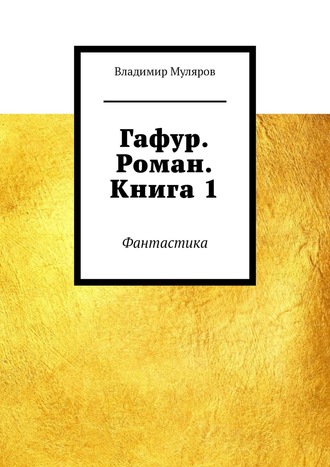
Полная версия
Гафур. Роман. Книга 1. Фантастика
Между тем, меня, наконец-то положили на земляной пол в хлеву, как я и ожидал. Кудахтали всполошенные куры, а самом конце хлева я увидел того самого очень грустного ослика, который теперь жевал сено и выглядел значительно более счастливым, чем тогда, в пустыне. Хозяин куда-то вышел, а со мной остался старик. Мы остались в хлеву одни, и он, наклонившись ко мне, посмотрел мне прямо в глаза.
– Мы здесь застрянем на время, пока не кончится буря. – Сказал мне он. И в словах старика я не расслышал ноток радости.
– Сейчас моя жена тебе даст поесть немного из того, что тебе можно. А насчет этих людей?… – Тут он постоял и помолчал с минуту. – Ты ведь знаешь, что тебя сдадут властям. И нас вместе с тобою. Хозяин дома – продолжал рассказывать старик, – мой давнишний и очень преданный друг. Ни он, ни члены его семьи никогда бы нас не предали. Но в этом жилище собраны люди, не имеющие крова над головой. И их Иосиф не мог оставить вне стен своего дома в то время, как с юга к нам летит смерть… Они тебя видели. Многие тебя узнали. Поэтому, к исходу бури ты должен будешь умереть. Естественной смертью. Так, чтобы каждый подумал, что ты не пережил болезнь. Только будучи мертвым, ты не понудишь никого бежать с доносом к легату местного легиона. Потому что, нет человека – нет и проблемы. – Высказал старик древнюю мудрость.
Он стоял и смотрел на меня совершенно спокойным взглядом. Так, как будто рассказывал о моей предстоящей смерти не мне, а кому—нибудь постороннему. Тем временем в хлев к нам вошел хозяин дома, тащивший на длинной цепи какое-то чудище, которое рычало и упиралось всеми четырьмя лапами, явно не желая поменять свободу двора на застенки хлева. Это чудище посмотрело на меня и пискнуло, как котенок. И глаза у него были добрыми и очень грустными.
– Иди, иди уже, порождение ехидны! – Ворчал Иосиф в адрес чудища. – Вот ведь глупый пес! Не понимает, что снаружи его просто высушит до костей Дыхание Кара—Юла. —
Я знал, что такое Дыхание Кара—Юла.
Это такой ветер. Он налетает на земли Южной Идумеи внезапно, формируясь в самом центре Аравийской пустыни. Это то, от чего нет спасения, если только ты не успел укрыться в надежном помещении. Это такой ветер, который летит со скоростью скорого поезда. Он имеет температуру порядка шестидесяти градусов по Цельсию и нулевую влажность. Поэтому, когда он повстречает тебя на своем пути, то через час превращает тебя в совершенное подобие египетской мумии, высушивая тебя именно до костей. Как правильно и сказал о том Иосиф. После соприкосновения с этим ветром, во всем живом не остается никакой влаги. Но ты, конечно, умираешь гораздо раньше. От перегрева и обезвоживания. Ему не может противостоять никто.
Поэтому мне, конечно, было понятно то, почему хозяин этого имения собрал у себя в доме столько народу. Я полагаю, здесь им были собраны все местные бомжи.
Когда Иосиф надежно прикрепил собачью цепь к стене своего дома, то он повернулся и, не попрощавшись, нас покинул. А молчавший все это время дед, снова заговорил со мной.
– Поэтому, – продолжал старик, – ближе к концу урагана я тебе дам три глотка Воды Мертвых. Тебе ведь уже известно, что ты будешь выглядеть снаружи и впрямь как мертвец. Ни чувств, ни движений, ничего. Потом я с Иосифом тебя, умершего, вынесу у всех на виду за пределы поселка и там предам земле, как собаку, без соблюдения обрядов.
– Спасибо. – Сказал ему я. – Я думал, что ты просто меня задушишь.
– Пожалуйста. – Парировал дед и продолжал. – Это все нужно для того, чтобы во-первых, люди видели, что разбойник Гафур подох, как собака, несмотря на то, что равви Иосиф пытался этого Гафура спасти исключительно с целью предать его властям на праведный суд. А во—вторых, негоже хоронить, как человека того, кто причинял в прошлом столько бед окрестным землям. Это все станет известно местным властям, которые будут только благодарны нам за то, что, наконец-то, мир избавился еще от одного демона. – Он умолк, внимательно вслушиваясь в тишину за стеной дома.
– Но это ведь еще не все, что ты хотел бы мне сообщить? – Спросил я старика.
– О! Конечно же! – Воскликнул он, и в глазах его снова загорелся огонь. – Я бы с превеликим удовольствием отправил тебя к твоим демонским праотцам прямиком в ад, где тебе и место! Да вот только не могу этого сделать! —
– Отчего же так? – Стал заводиться и я.
– Оттого же! – Выпалил мне в лицо старик. – Потому что Он… – И тут старик поднял вверх свой крючковатый указательный палец. – Потому что Он не разрешает мне этого. —
Мне было понятно, что старик совсем тронулся умом. Я еще из прежней своей жизни, из совсем иного мира, мира, который я до сих пор безгранично любил, оттуда извлек я одно золотое правило, которое гласило: «Если ты разговариваешь с Богом, то это – молитва. А если Бог разговаривает с тобой, то это – шизофрения». Было понятно, что у деда просто поехала крыша, как говаривали у нас. И он слышит какие—то голоса, про которые думает, что это к нему обращается Сам Бог. Я насмотрелся и там, и тут как на сектантов, доведших себя до совершенного безумия, так и просто на изначально больных людей. И этот дед – он был совсем не первым человеком в моей жизни, кто утверждал, что ему что-то там повелели сделать голоса свыше. Причем каждый, кто слышал эти голоса, почему то всегда приписывал их Богу? Как будто из иного мира с человеком и поговорить-то больше некому?
– А потом, – продолжал свою мысль старик, – потом мы тебя откопаем. Вылечим. Поставим на ноги. – Он чеканил каждое слово. – И дадим тебе шанс начать совершено новые дни. Легально. Потому что все будут знать, что разбойника Гафура больше в этом мире нет. Так же, как уже нет в живых и его паскудных сообщников. Людям даже будет известно то место, где ты похоронен, чтобы каждый желающий мог туда прийти и от всего сердца помочиться на твою мертвую голову! —
С этими словами гневный и очень милый этот дед прекратил свою речь, уступая место женщине, которая к моему несказанному счастью принесла миску с горячей, жидкой кашей. Умолк и я. Потому что меня стали кормить кашей с ложечки. Совсем как в детстве.
Глава 8. Большие Нули.«Есть упоение в бою.И жизни этой на краю,И в разъяренном океане,Средь грозных волн и бурной тьмы,И в аравийском урагане,И в дуновении чумы…»Я лежу, закрыв глаза, впервые за последние несколько дней вкусив пищи. Я лежу, закрыв глаза, под вой аравийского урагана, не на шутку разыгравшегося за стенами одного очень гостеприимного дома, стоящего на самом краешке обжитых земель, за которыми начинается царство бескрайних песков. На соломенном своем матраце лежу я и вспоминаю день, когда раздался тот самый, странный звонок от одного моего старинного друга. Что и изменило всю мою последующую жизнь. И, возможно, не только мою.
Я часто вижу это и во сне, и наяву.
Видимо, до сих пор не дает мне покоя что-то, чего я не в силах понять, как ни стараюсь…
В середине июня две тысячи третьего года мне утром позвонил один мой школьный товарищ, Михаил. Он жил в Питере, но приехал в город, где жил я, погостить к своим родителям. Обычное дело. Он поступал так каждый год. Даже тогда, когда в отпуск уезжал поколесить по Европе с женой. Даже и в те годы, он изыскивал время и средства посетить родителей. В отличие от меня. Я к своим предкам относился совсем иначе. Когда у меня умерла мать, не переживши второго инсульта, то отец, который после ее первого инсульта не отходил от ее постели почти семь лет, сразу же избрал для достойного окончания своих дней тот путь, о котором, – я это знал всегда, – он мечтал очень и очень давно. Он ушел послушником в Святогорский мужской монастырь, что на самом севере Донецкой области, на Украине. Старый шахтер по природе своей был трудоголиком и поэтому, послушания монастырские – это было ровно то, что он желал бы делать в жизни, довольствуясь при этом минимумом благ.
Это был его путь.
Мне он писал письма, исполненные боли за меня, мою семью, и я всегда знал, что молитва старика, любящего своих чад – это и есть та самая великая сила, которая спасает как тех, о ком молятся, так и самого молящегося. Поэтому, я был спокоен, как за него, так и за себя. Мне почему—то казалось, что если за меня кто—то от всего сердца молится, то мне, в принципе, можно и расслабиться немного. И я расслаблялся. О! Можете мне поверить, я расслаблялся!
Я не собираюсь здесь заниматься самокопанием, которое обычно называют исповедью. И не то, чтобы я не верил в действенность раскаяния. Но, просто на себя этот костюм я не примерял. И скажу, чтобы было понятно, что я в самом широком смысле был дитя своего времени. Да. Мне нравилось мое время, где я жил со своей семьей, и те свободы, которые нам на голову свалились в конце множества разных перестроек. Поэтому, конечно, путь, выбранный отцом, был мне совсем непонятен. Но, с другой стороны, это был его выбор. Я же никогда не чувствовал себя человеком верующим во что—то там… По образованию, да и по образу мышления, я был всего скорее, гностиком. Да и непонятны мне были люди, сознательно бегущие от демократических свобод в области самых разных ограничений, свойственных монастырским уставам.
Эти мои взгляды, конечно, были понятны отцу моему, который знал меня лучше, чем знал себя я. Как и я знаю своего сына лучше, чем он себя знает. В нормальных семьях такое положение вещей является чаще правилом, чем исключением.
Отец мне периодически слал письма.
А я их читал и ревел тихонько, чтоб никто не видел из домашних. Потому что это были не письма, а крик души, умолявшей меня, души, просившей меня, души, любящей меня. Каждое письмо было укором моему образу жизни в том мире, где разрешена была любая вера. В мире, где свободы были доведены до абсурда. В мире, который в силу именно этих свобод бескрайних, как та пустыня, что сейчас за стеною дома, был миром абсолютно постхристианским. Если не сказать, антихристианским.
Я ничего не смыслил во всех этих рассуждениях, о каком то спасении чего-то, про что я не мог с уверенностью сказать – есть она – эта душа, – или же это все игра ума в стиле Авенариуса, Юма и Маха?
Проблема отцов и детей, скажете вы?
Оно так. Но, как сказал однажды мне один иеромонах из того самого Святогорского монастыря, когда мне случилось там побывать со своею женой, этот иеромонах мне сказал среди прочего: «Нет проблемы детей. Есть проблема родителей». Тобишь, только отцов. За исключением только очень редких, хронических случаев генетических безобразников, во всем остальном как ты ребенка воспитаешь, таким он и будет.
Конечно, я был рад за отца, что он хотя бы под занавес своих дней живет в мире с собою. А его письма? Его письма – это было то, с чем я никогда не расставался. Я купил в местном универмаге, у себя в городе, кожаную сумку «а—ля почтальон тридцатых». Дорогую, под стать содержимому. И в этой кожаной сумке держал отцовские письма, которые перечитывал часто. Чем-то они меня трогали помимо того, что я испытывал к отцу сыновние чувства. Было в них нечто такое, что нельзя определить словами. Не богословие. Не литература. Вероятно, любовь. Да, Любовь. Это тоже то, что либо есть, либо ее нет, любви этой. И даже не то меня держало внутри текста, что я чувствовал вполне естественную любовь моего отца ко мне. Но, нечто гораздо большее, чем просто родственные чувства, всегда на меня действовало, заставляя и плакать, и переживать какие-то совершенно новые для меня ощущения, и чувства престранные. Незнакомые, тревожащие чувства. И они не притуплялись при прочтении текста снова и снова, как это бывает с любым текстом. Прочтите какое—нибудь слово тысячу раз, и увидите, что вы перестали понимать, что это слово обозначает. Но в них, в письмах отца, было то, что не терялось при многократном прочтении и то, чего не прочтешь ни в одном интернете, нигде. В них чувствовалась любовь отца к Богу. Но, что еще более сильно сквозило через все его письма, так это, как ни странно, наличие в них любви Самого Бога к человеку. Они, эти письма, были написаны так, как если бы со мной общался не отец мой земной, а Отец мой Небесный. И это мистическое насыщение было тем, про что когда-то сказал Христос: «Аще соль обуяет, чем осолитеся?» Вот именно это не давало мне покоя. Потому что я как-то понял, что если только из писем отца убрать именно эту соль, то останется просто «неформатированный» текст, который хоть и исполнен всякого плача по мне, но меня ни за что бы не тронул.
Знаю я это. Знаю.
И потому я держал письма его у самого своего сердца, что от них исходило такое тепло и такая любовь, как-будто они были написаны не смертным человеком, но Бессмертным Духом, про которого иные говорят, что Он и в самом деле есть…
Так вот, в один из жарких дней июля, года две тысячи третьего от Рождества Христова, звонит мне домой Мишель и говорит в телефон такие слова
– Слушай, – говорит он мне в телефон, – а не сгонять ли нам на природу деньков, этак, на парочку? —
– Отчего же не сгонять? – Говорю я ему. – Очень даже можно и сгонять. —
Жены наши с нами ехать отказались категорически. А вот сын мой сразу же согласился. И как-то сразу весь вопрос решился легко и просто. Даже странно, насколько все просто решилось.
Ну вот. Стоим мы на разных концах трубки, болтаем. Не виделись, все-таки год. И Мишель так это, между прочим, просит меня
– Слушай, – говорит он мне в телефон, – Давно хотел тебя спросить. – И замялся даже он как-то при этих словах.
– Ты с собой возьмешь письма твоего старика? – Говорит он мне в трубку.
– Конечно. – Говорю ему я.
– Хорошо. – Отвечает он мне, и я не могу понять, почему ему хорошо от того, что я беру с собой совершенно личные вещи?
– Возьми и тот старый видоискатель, который от твоего ФЭДа остался. И еще возьми с собой одежду и обувку типа как на холода. – Говорит мне в трубку телефона мой друг. – И финку свою фирменную не забудь. —
– На к-кой хрен? – Вырвалось у меня. – Жара за тридцать! —
– Возьми, возьми, – талдычит он мне, – и я понимаю, что не отстанет он от меня.
– Как насчет рыбок? – Снова спрашивает он.
– Так же, как и обычно. – Отвечаю я ему. И это означает, что возьму я с собой очень оригинальные «удочки», сделанные из одного очень распространенного удобрения, алюминиевой пудры и угольных таблеток из аптеки.
– Ладно. Не переживай. Возьму все, так и быть. – Говорю я, вспоминая о том, что весь этот ненужный летом хлам может потаскать на себе и мой сын, который едет с нами. И поэтому я к утру следующего дня собрал вполне солидный рюкзак, где лежало все необходимое для двухдневных путешествий куда угодно – от тропиков до полюса.
Утром за мной зашел сын. Тоже с приличным рюкзаком. И мне не оставалось ничего иного, как, посылая все к такой-то матери, тащить свою поклажу самому.
Воскресенье. Люди мчатся кто-куда, лишь бы до жары успеть все свои дела приделать. Да и нам идти недалеко до автовокзала, с которого мы намереваемся на пригородном автобусе проехавшись, быть через сорок минут у берегов одной расчудесной речушки с названием Колокша.
Выходим из подъезда с сыном и идем неспешной походкой по теневой стороне центральной городской магистрали с названием проспект Ленина. Шум, гам, говорим о чем-то несущественном. Я достаю из кармана совсем новенький мобильник и набираю Михаила.
– Ты где? – Спрашиваю я у него.
– Пересекаю Ломоносова. – Отвечает он. И это означает, что ровно через один квартал мы выйдем из пересекающихся улиц на общий перекресток, где и встретимся.
Но вот что-то как-то не так становится. То ли жара достает, несмотря на утро. То ли опять сосуды больные тревожат. Но только как-то неспокойно мне на душе. Очень неспокойно. Мы еще продолжаем с сыном говорить о чем-то, как вдруг я замечаю, что и у него на лбу испарина и зрачки расширенные. Страх у него на лице. Мы продолжаем идти этот коротенький квартал, но уже молча. Потому что все наше внимание теперь приковано к тому, чего здесь быть никак не должно. Я еще не понимаю того, что же здесь в городе стало лишним? Как вдруг сын мой останавливается и мне говорит
– Пап, – говорит он мне, – куда вдруг все подевалось? —
И тут только я соображаю, что не излишки чего-то меня тревожат, а напротив, нехватка. Нет людей в городе. И машин нет. И автобусов с троллейбусами тоже нет. Вдоль всей центральной улицы, насколько хватает глаз. В воскресный день, в двухсоттысячном городе, когда все забито народом и транспортом, нет ни людей, ни этого самого транспорта. Мы с сыном стоим и тупо пялимся на нетронутую пыль, которой покрыт асфальт проезжей части проспекта Ленина. Мы уже достигли точки встречи с Михаилом, но его тоже нигде не видно. Я вновь беру телефон и нажимаю цифру три.
– Ты где? – Снова задаю я ему тот же вопрос.
– Стою на перекрестке Ленина и Ломоносова. – Отвечает он мне в трубку. И от этого ответа меня вдруг прошибает холодный пот, несмотря на жару. Потому что это как раз мы с сыном стоим на этом самом перекрестке. А не он. Его тут нет!
– Мишаня, – говорю ему я голосом предельно спокойным, – посмотри вокруг себя там, где ты стоишь, все ли в порядке с гор… Все ли… Блин! Нет ли вокруг тебя чего-то странного? – И я замечаю, что сотовая связь начинает давать сбой. Потому что его ответ становится прерывистым.
– Нет! – Почти кричит он мне в трубку. – Вы где? —
– Да здесь мы! – Ору в трубку ему я. – Не знаю! Где мы? —
– Чего? – И голос его уже почти исчезает – А… Не бойтесь… ися нули большие… и здесь… я… нет … – И тут он окончательно пропал.
Я посмотрел на индикатор сотовой сети. Экран был чист. Это было тоже очень странно, потому что совсем рядом с нами была передающая мачта на крыше Центрального Узла Связи. Я развернулся на девяносто градусов и взглянул на крышу этого здания. На нем не было никакой мачты.
– Мы куда-то прошагнули. – Говорит мне Антон, и я понимаю, что слово «прошагнули» – это именно то слово, которое в нашей ситуации наиболее уместно. Это – правда! Мой мозг отказывается в это верить. Но вот вам факт – Пустынный Город. Тем временем слух наш улавливает какой-то звук, доносящийся сзади. Мы поворачиваемся и видим, как прямо посреди проезжей части на трехколесном велосипеде едет чумазый мальчик в грязной майке и старых каких-то сандалиях. Он следует, неспешно покручивая скрипящие педали своего велосипеда, и мы замечаем еще одну странность. Прямо напротив нас, по противоположной стороне улицы идут двое по пояс голых парня невиданных размеров. Парни эти являют собой просто образцы бодибилдинга. Просто-таки нереальные парни. Один из них покручивает в пальцах руки какую-то палочку. Идут и мирно беседуют друг с другом. И все. И больше никого вокруг нет.
– Где мы, блин? – Задаю я вопрос самому себе. Тут мой сын разворачивается и открывает двери магазина, которые прямо у нас за спиной. Это хорошая идея. Может быть, внутри зданий все по-прежнему? Он смотрит в дверной проем, а потом переступает порог магазина.
– Я сейчас. – Говорит он мне. – Гляну на втором этаже.-
Время идет. Я стою на месте, заворожено рассматривая катающегося кругами мальчика. А Антона все нет. Наконец, до меня начинает доходить мысль, что с меня хватит всей этой карусели с мальчиками, крутыми парнями и Пустынным Городом. И я разворачиваюсь к той двери, куда зашел мой сын, но обнаруживаю, что теперь и сам магазин и тротуар от меня как-то очень далеко оказываются. И ветер совсем стих. А жара, наоборот, стала просто нестерпимой. До того трудно просто ногу переставить с места на место, как будто ногу приклеили к мостовой. Вижу я, что из открывающейся двери выходит мой сын, и вижу, что двигается он также чрезвычайно тяжело. Он отрицательно качает головой. Мы стараемся двигаться навстречу друг к другу, но в какой-то момент времени это становится сделать просто невозможно, и мы стоим в нескольких метрах друг от друга, замерев, взмокшие от пота, с беспокойными лицами. И смотрим на катающегося мальчишку, который, как ни в чем не бывало, продолжает крутить свои педали.
Вокруг меня начинает крутиться какой-то ветерок, наподобие крошечного смерчика со мною в центре. Мальчик на велосипеде едет все медленнее по мере того, как смерчик вокруг меня начинает резвиться все сильнее. Я замечаю, что и вокруг Антона вьется такой же ветерок.
– Что делать будем? – Задаю я сыну моему вопрос, и голос мой почти не звучит.
– Не знаю. —Кричит он мне в ответ. – Дядя Миша сказал «Не бойтесь». – И я его уже еле слышу.
– Антон! – Уже изо всех сил ору ему я. – Если потеряемся, постарайся вернуться домой и успокоить маму! —
От него звуков уже не исходит, но по артикуляции я понимаю, что он кричит мне «Ладно!» и кивает головой.
Так мы и стоим в ожидании того, чего предотвратить уже не можем. Смерчи вокруг нас усиливаются. Мальчишка на велосипеде, наконец-то останавливается. Затем он начинает ехать задом наперед, все ускоряя движение, и я замечаю, что то место, где стоит мой сын медленно тает, растворяясь в воздухе. Исчезает и мальчик с велосипедом. Затем, взглянув вверх, я вижу ворону, летящую стремглав хвостом вперед. Я протягиваю свою руку и натыкаюсь на какую-то невидимую преграду. Такая же преграда оказывается вокруг меня со всех сторон. Смерчи больше вокруг меня не кружат, но зато теперь в городе, где со мною что-то происходит, начинает быстро темнеть. Я вижу солнце, движущееся по небу с запада на восток. Внезапно вокруг все оживает и мне виден наш родной город, снова полный жизни. Все мелькает, движется, постепенно ускоряясь. Только все происходит в обратном течении времени. Полминуты. Не больше. Солнце камнем падает за горизонт на востоке. Наступает ночь и магистраль, на которой я стою, вся испещрена стрелами фар мчащихся автомобилей. И мне даже ни к чему, что они мчатся прямо через меня. Задом наперед. И меня при этом никак не задевают.
Солнце вырывается с запада, из—за горизонта, словно ракета, и, быстро очертив небесную свою дугу, снова камнем падает за горизонт на востоке. Вокруг меня, в городе, который теперь плохо различим из-за слишком быстрого темпа событий, по-прежнему все течет наоборот.
Наконец, закаты и восходы начинают меняться с такой частотой, что все сливается в один неразличимый круговорот. И я делаю вывод, что теперь сутки, отматываемые в направлении прошлого для меня, длятся не дольше одной тридцатой секунды. Или, что то же самое, за одну мою секунду снаружи уходит вспять как минимум месяц.
По видимому, темп бега времени вспять еще ускорялся. Потому что я стал различать вокруг только смену сезонов. При этом мои часы показывали мне, что год пролетал примерно за четыре секунды. Это означало, что за час с небольшим можно улететь примерно на тысячу лет назад. Я засек время с того момента, как попал во всю эту карусель. « Что ж?» – подумал я. —«По крайней мере мне не дожить до времен, куда мне точно не хотелось бы попадать. Поскольку ко временам доисторическим с такими темпами мне заживо не добраться».
По прошествии минут двадцати я несколько успокоился и обрел, наконец, способность размышлять логически. Мне также удалось снять с плеч надоевший рюкзак и просунуть его себе между ног. Почувствовав такое облегчение, я постарался привести в порядок свои мысли невеселые.
Было понятно, что Антона тоже закружило, как и меня. Потому что я видел, как вокруг него снуют силы, формирующие вселенную.
Сперва вызывая ветерок, а дальше, формируя какую-то пространственную капсулу, в которой ты можешь двигаться не в пространстве, но во времени.
Эта идея, конечно, мне была знакома. Самая передовая часть интеллектуальной элиты планеты, которая зовется писателями – фантастами, давным-давно уже обсосала эти сюжеты, где время и пространство как бы менялись ролями в жизни человека. (И замечу вам, что нет ни одной стоящей фантастической идеи, которая по прошествии какого-то времени, не обрела бы своего реального воплощения.) Теоретически мне это тоже было понятно. Потому что и время, и пространство – суть одно и то же. При помощи умножения и деления на скорость света из времени можно получать пространство, а из пространства время. Поэтому, если мы в нормальном мире можем свободно перемещаться в пространстве, но не во времени, теоретически можно предположить наличие таких условий, когда ты наоборот, смог бы свободно перемещаться во времени, потеряв при этом всякую свободу своих перемещений в пространстве.
Совсем, как у меня сейчас.
Я тут стою, запертый в какую-то непонятную капсулу, и не могу никуда сдвинуться в пространстве. Более того. Географически, как мне кажется, я тоже нахожусь все еще на месте, никуда не перемещаясь из того города, который лежит у меня под ногами. Но при этом я совершенно очевидным образом следую во времени. Причем в прошлое относительно своего начального момента.
И за каждый час, исходя из моих весьма неточных замеров, меня будет относить примерно на тысячу лет назад. Но при этом я останусь в той же самой точке на поверхности земли. Или же нет? Как знать…
Где Антон? Где Михаил? И как так мы вышли в какой-то мир без людей? Ну, почти без людей. И почему даже этого не заметили? Как так мы прошагнули в какой-то мир параллельный среди бела дня в самом центре густонаселенного города?