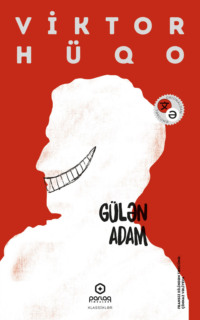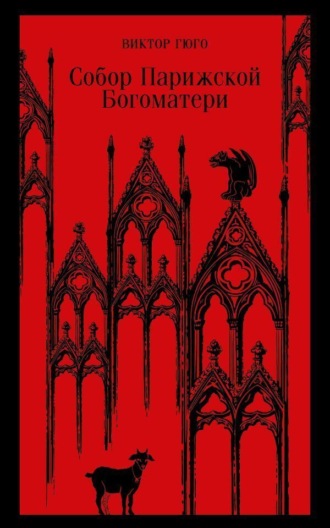
Полная версия
Собор Парижской Богоматери
Итак, повторяем вкратце то, на что мы указывали выше: троякого рода повреждения искажают облик готического зодчества. Морщины и наросты на поверхности – дело времени. Следы грубого насилия, выбоины, проломы – дело революций, начиная с Лютера и кончая Мирабо{45}. Увечья, ампутации, изменения в самом костяке здания, так называемые «реставрации» – дело варварской работы подражавших грекам и римлянам ученых мастеров, жалких последователей Витрувия{46} и Виньоля{47}. Так великолепное искусство, созданное вандалами, было убито академиками. К векам, к революциям, разрушавшим по крайней мере беспристрастно и величаво, присоединилась туча присяжных зодчих, ученых, признанных, дипломированных, разрушавших сознательно и с разборчивостью дурного вкуса, подменяя, к вящей славе Парфенона, кружева готики листьями цикория времен Людовика XV. Так осел лягает умирающего льва. Так засыхающий дуб точат, сверлят, гложут гусеницы.
Как далеко то время, когда Робер Сеналис, сравнивая собор Парижской Богоматери с знаменитым храмом Дианы в Эфесе, «столь прославленным язычниками» и обессмертившим Герострата, находил галльский собор «великолепней по длине, ширине, высоте и устройству»![35]
Собор Парижской Богоматери не может быть, впрочем, назван законченным, цельным, имеющим определенный характер памятником. Это уже не храм романского стиля, но это еще и не вполне готический храм. Это здание промежуточного типа. Собор Парижской Богоматери не имеет, подобно Турнюсскому аббатству, той суровой, мощной ширины фасада, круглого и широкого свода, леденящей наготы, величавой простоты зданий, основоположением которых является круглая арка. Он не похож и на собор в Бурже, великолепное, легкое, многообразное по форме, пышное, все ощетинившееся остриями стрелок произведение готики. Невозможно причислить собор и к древней семье мрачных, таинственных, приземистых и как бы придавленных полукруглыми сводами церквей, напоминающих египетские храмы, за исключением их кровли, целиком эмблематических, жреческих, символических, орнаменты которых больше обременены ромбами и зигзагами, нежели цветами, больше цветами, нежели животными, больше животными, нежели людьми; являющихся творениями скорее епископов, чем зодчих; служивших примером первого превращения того искусства, насквозь проникнутого теократическим и военным духом, которое брало свое начало в Восточной Римской империи и дожило до времен Вильгельма Завоевателя{48}. Невозможно также отнести наш собор и к другой семье церквей, высоких, воздушных, с изобилием витражей, смелых по рисунку; общинных и гражданских как символы политики, свободных, прихотливых и необузданных как творения искусства; служивших примером второго превращения зодчества, уже не эмблематического и жреческого, но художественного, прогрессивного и народного, начинающегося после крестовых походов и заканчивающегося в царствование Людовика XI. Таким образом, собор Парижской Богоматери – не чисто романского происхождения, как первые, и не чисто арабского, как вторые.
Это здание переходного периода. Не успел саксонский зодчий воздвигнуть первые столбы нефа, как стрельчатый свод, вынесенный из крестовых походов, победоносно лег на широкие романские капители, предназначенные поддерживать лишь полукруглый свод. Нераздельно властвуя с той поры, стрельчатый свод определяет формы всего собора в целом. Неискушенный и скромный вначале, этот свод разворачивается, увеличивается, но еще сдерживает себя, не дерзая устремиться остриями своих стрел и высоких арок в небеса, как он сделал это впоследствии в стольких чудесных соборах. Его словно стесняет соседство тяжелых романских столбов.
Однако изучение этих зданий переходного периода от романского стиля к готическому столь же важно, как и изучение образцов чистого стиля. Они выражают собою тот оттенок в искусстве, который был бы для нас утрачен без них. Это – прививка стрельчатого свода к полукруглому.
Собор Парижской Богоматери и является примечательным образцом подобной разновидности. Каждая сторона, каждый камень почтенного памятника – это не только страница истории Франции, но и истории науки и искусства. Укажем здесь лишь на главные его особенности. В то время как малые Красные врата по своему изяществу почти достигают предела утонченности готического зодчества XV столетия, столбы нефа по объему и тяжести напоминают еще здание аббатства Сен-Жермен-де-Пре времен Каролингов, словно между временем сооружения врат и столбов лег промежуток в шестьсот лет. Все, даже герметики, находили в символических украшениях главного портала достаточно полный обзор своей науки, совершенным выражением которой являлась церковь Сен-Жак-де-ла-Бушри. Таким образом, романское аббатство, философическая церковь, готическое искусство, искусство саксонское, тяжелые круглые столбы времен Григория VII{49}, символика герметиков, где Никола Фламель предшествовал Лютеру, единовластие папы, раскол церкви, аббатство Сен-Жермен-де-Пре и Сен-Жак-де-ла-Бушри – все расплавилось, смешалось, слилось в соборе Парижской Богоматери. Эта главная церковь, церковь-прародительница, является среди древних церквей Парижа чем-то вроде химеры: у нее голова одной церкви, конечности другой, торс третьей и что-то общее со всеми.
Повторяем, эти постройки смешанного стиля представляют немалый интерес и для художника, и для любителя древностей, и для историка. Подобно следам циклопических построек, пирамидам Египта и гигантским индусским пагодам, они дают почувствовать, насколько первобытно искусство зодчества, служа наглядным доказательством того, что крупнейшие памятники прошлого – это не столько творения отдельной личности, сколько целого общества; это скорее следствие творческих усилий народа, чем блистательная вспышка гения; это осадочный пласт, оставляемый после себя нацией; наслоения, отложенные веками; гуща, оставшаяся в результате последовательного испарения человеческого общества; одним словом, это своего рода органическая формация. Каждая волна времени оставляет на памятнике свой намыв, каждое поколение – свой слой, и каждая личность добавляет свой камень. Так поступают бобры, так поступают пчелы, так поступают и люди. Величайший символ зодчества Вавилон представлял собою улей.
Великие здания, как и высокие горы, – создания веков. Часто форма искусства успела уже измениться, а они все еще не закончены, pendent opera interrupta, тогда они спокойно принимают то направление, которое избрало искусство. Новое искусство берется за памятник в том виде, в каком его находит, отображается в нем, уподобляет его себе, продолжает согласно своей фантазии и, если может, заканчивает его. Это совершается спокойно, без усилий, без противодействия, следуя естественному, бесстрастному закону. Это черенок, который привился, это сок, который бродит, это растение, которое принялось. Поистине в этих последовательных спайках различных искусств на различной высоте одного и того же здания заключается материал для многих объемистых томов, а нередко и сама всемирная история человечества. Художник, личность, человек исчезают в этих огромных массах, не оставляя после себя имени творца; человеческий ум находит в них свое выражение и свой общий итог. Здесь время – зодчий, а народ – каменщик.
Рассматривая лишь европейское, христианское зодчество, этого младшего брата огромных каменных кладов Востока, мы видим пред собой исполинское образование, разделенное на три резко отличных друг от друга пояса: пояс романский, пояс готический и пояс Возрождения, который мы охотно назовем греко-римским. Романский пласт, наиболее древний и глубокий, представлен полукруглым сводом, который вновь появляется перед нами в верхнем новом пласте эпохи Возрождения, поддерживаемый греческой колонной. Между ними лежит пласт стрельчатого свода. Здания, относящиеся только к одному из этих трех наслоений, совершенно отличны от других, законченны и едины. Таковы, например, аббатство Жюмьеж, Реймский собор, церковь Креста Господня в Орлеане. Но эти три пояса, как цвета в солнечном спектре, соединяются и сливаются по краям. Отсюда возникли памятники смешанного стиля, здания различных оттенков переходного периода. Среди них можно встретить памятник, романский по своему основанию, готический по средней части, греко-римский по куполу. Это объясняется тем, что он строился шестьсот лет. Впрочем, подобная разновидность встречается редко. Образчиком такого здания служит главная башня замка Этамп. Чаще других встречаются памятники двух формаций. Таков собор Парижской Богоматери – здание со стрельчатым сводом, которое первыми своими столбами внедряется в тот же романский слой, куда погружены и портал Сен-Дени, и неф церкви Сен-Жермен-де-Пре. Таков прелестный полуготический зал капитула Бошервиля, до половины охваченный романским пластом. Таков кафедральный собор в Руане, который был бы целиком готическим, если бы острие его центрального шпиля не уходило в эпоху Возрождения.
Впрочем, все эти оттенки и различия касаются лишь внешнего вида здания. Искусство меняет здесь только оболочку. Самое же устройство христианского храма остается незыблемым. Внутренний остов его все тот же, все то же последовательное расположение частей. Какой бы скульптурой и резьбой ни была разукрашена оболочка храма, под нею всегда находишь, хотя бы в зачаточном, начальном состоянии, римскую базилику. Она располагается на земле по непреложному закону. Это все те же два нефа, пересекающихся в виде креста, верхний конец которого, закругленный куполом, образует хоры; это все те же постоянные приделы для крестовых ходов внутри храма или для часовен – нечто вроде боковых проходов, с которыми центральный неф сообщается через промежутки между колоннами. На этой постоянной основе бесконечно варьируется число часовен, порталов, колоколен, шпилей, следуя за фантазией века, народа и искусства. Предусмотрев и обеспечив все правила церковного богослужения, зодчество в остальном поступает как ему вздумается. Изваяния, витражи, розетки, арабески, разные украшения, капители, барельефы – все это сочетает оно по своему вкусу и своим правилам. Отсюда проистекает изумительное внешнее разнообразие подобного рода зданий, в основе которых заключено столько порядка и единства. Ствол дерева – неизменен, листва – прихотлива.
II. Париж с птичьего полета
Мы попытались восстановить перед читателями чудесный собор Парижской Богоматери. Мы в общих чертах указали на те красоты, которыми он обладал в XV веке и которых ныне ему недостает, но мы опустили главное, а именно – картину Парижа, открывавшуюся с высоты его башен.
Когда после долгого восхождения ощупью по темной спирали лестницы, вертикально пронзающей массивные стены колоколен, вы внезапно вырывались на одну из высоких, полных воздуха и света террас, перед вами развертывалась со всех сторон великолепная панорама. То было зрелище sui generis[36], о котором могут составить себе понятие лишь те из читателей, кому посчастливилось видеть какой-нибудь из еще сохранившихся кое-где готических городов во всей его целостности, завершенности и сохранности, как, например, Нюрнберг в Баварии, Виториа в Испании или хотя бы самые малые образцы таких городов, лишь бы они хорошо сохранились, вроде Витре в Бретани или Нордгаузена в Пруссии.
Париж триста пятьдесят лет тому назад, Париж XV столетия был уже городом-гигантом. Мы, парижане, заблуждаемся относительно позднейшего увеличения площади, занимаемой Парижем. Со времен Людовика XI Париж вырос немногим более чем на одну треть и, несомненно, гораздо больше проиграл в красоте, чем выиграл в размере.
Как известно, Париж возник на древнем острове Ситэ, имеющем форму колыбели. Плоский песчаный берег этого острова был его первой границей, а Сена – первым рвом. В течение нескольких веков Париж существовал как остров с двумя мостами – одним на севере, другим на юге, и с двумя мостовыми башнями, служившими одновременно воротами и крепостями: Гран-Шатле на правом берегу и Пти-Шатле на левом.
Позже, начиная со времен первой королевской династии, Париж, слишком стесненный на своем острове, не находя возможности развернуться на нем, перекинулся через реку. Первая ограда крепостных стен и башен врезалась в поля по обе стороны Сены за Гран-Шатле и Пти-Шатле. От этой древней ограды еще в прошлом столетии оставались кое-какие следы, но ныне от нее сохранилось лишь воспоминание, лишь несколько легенд о ней да ворота Боде, или Бодуайе, Porta Bagauda. Мало-помалу поток домов, непрестанно выталкиваемый из сердца города, перехлестнул через ограду, разрушил и стер ее. Филипп Август воздвигает ему новую плотину. Он со всех сторон заковывает Париж в цепь толстых башен, высоких и прочных. В течение целого столетия дома жмутся друг к другу, скопляются и, словно вода в водоеме, все выше поднимают свой уровень в этом бассейне. Они растут в глубь дворов, они нагромождают этажи на этажи, карабкаются друг на друга, они, подобно сжатой жидкости, устремляются вверх, и только тот из них дышал свободно, кому удавалось поднять голову выше соседа. Улицы все более и более углубляются и суживаются; площади застраиваются и исчезают. Наконец дома перескакивают через ограду Филиппа Августа и весело, вольно, вкривь и вкось, как вырвавшиеся на свободу узники, рассыпаются по равнине. Они выкраивают в полях сады, устраиваются с удобствами.
Начиная с 1367 года город до того разлился по предместьям, что для него потребовалась новая ограда, особенно на правом берегу. Ее возвел Карл V. Но город, подобный Парижу, растет непрерывно. Только такие города и превращаются в столицы. Это воронки, куда ведут все географические, политические, моральные и умственные стоки страны, куда направлены все естественные склонности целого народа; это, так сказать, кладези цивилизации и в то же время каналы, куда, капля за каплей, век за веком, без конца просачиваются и где скапливаются торговля, промышленность, образование, население – все, что плодоносно, все, что живительно, все, что составляет душу нации. Ограда Карла V разделила судьбу ограды Филиппа Августа. С конца XV столетия дома перемахнули и через это препятствие, предместья устремились дальше. В XVI столетии эта ограда как бы все больше и больше подается назад в старый город – до того разросся за нею новый. Таким образом, уже в XV веке, на котором мы и остановимся, Париж успел стереть три концентрических круга стен, зародышем которых во времена Юлиана Отступника были Гран-Шатле и Пти-Шатле.
Могучий город разорвал один за другим четыре пояса стен – так дитя прорывает одежды, из которых выросло. При Людовике XI среди этого моря домов торчали кое-где группы полуразвалившихся башен, оставшиеся от древних оград, подобно остроконечным вершинам холмов во время наводнения, подобно островам старого Парижа, затопленным приливом нового города.
С тех пор, как это ни грустно, Париж вновь преобразился; но он преодолел всего только одну ограду, ограду Людовика XV, эту жалкую стену из грязи и мусора, достойную короля, построившего ее, и поэта, ее воспевшего.
В застенке стен Париж стенает.В XV столетии Париж был разделен на три города, резко отличных друг от друга, независимых, обладавших каждый своей физиономией, своим специальным назначением, своими нравами, обычаями, привилегиями, своей историей: Ситэ, Университет и Город. Ситэ, расположенный на острове, самый древний из них и самый незначительный по размерам, был матерью двух других городов, напоминая собою – да простится нам это сравнение – маленькую старушку между двумя стройными красавицами дочерьми. Университет занимал левый берег Сены, от башни Турнель до Нельской башни; в современном Париже эти места соответствуют: одно – Винному рынку, другое – Монетному двору. Ограда его довольно широким полукругом вдалась в поле, на котором некогда Юлиан Отступник воздвиг свои термы. В ней находился и холм Святой Женевьевы. Высшей точкой этой каменной дуги были Папские ворота, почти на том самом месте, где ныне расположен Пантеон. Город, самая обширная из трех частей Парижа, занимал правый берег Сены. Его набережная, обрывавшаяся, вернее, прерывавшаяся в нескольких местах, тянулась вдоль Сены, от башни Бильи до башни Буа, то есть от того места, где расположены теперь Провиантские склады, и до Тюильри. Эти четыре точки, в которых Сена перерезала ограду столицы, оставляя налево Турнель и Нельскую башню, а направо – башню Бильи и башню Буа, известны главным образом под именем «Четырех парижских башен». Город вдавался в поля еще дальше, чем Университет. Высшей точкой его ограды (возведенной Карлом V) были ворота Сен-Дени и Сен-Мартен, местоположение которых не изменилось и до сих пор.
Как мы уже сказали, каждая из этих трех больших частей Парижа сама по себе являлась городом, но городом слишком узкого назначения, чтобы быть вполне законченным и обходиться без двух других. Поэтому и облик каждого из этих трех городов был совершенно своеобразен. В Ситэ преобладали церкви, в Городе – дворцы, в Университете – учебные заведения. Не касаясь в данном случае второстепенных особенностей древнего Парижа и прихотливых законов дорожного ведомства, отметим в общих чертах, основываясь лишь на примерах согласованности и однородности в этом хаосе городских судебных ведомств, что юридическая власть на острове принадлежала епископу, на правом берегу – торговому старшине, на левом – ректору. Верховная же власть над всеми принадлежала парижскому прево, то есть чиновнику королевскому, а не муниципальному. В Ситэ находился собор Парижской Богоматери, в Городе – Лувр и Ратуша, в Университете – Сорбонна. В Городе помещался Центральный рынок, в Ситэ – госпиталь Отель-Дье, в Университете – Пре-о-Клер. Проступки, совершаемые школярами на левом берегу, разбирались на острове во Дворце правосудия и карались на правом берегу в Монфоконе, если только в дело не вмешивался ректор, знавший, что Университет – сила, а король слаб: школяры обладали привилегией быть повешенными у себя. (Заметим мимоходом, что большая часть этих привилегий – среди них встречались и более важные – была исторгнута у королевской власти путем бунтов и мятежей. Таков, впрочем, стародавний обычай: тогда лишь король уступает, когда народ вырывает. Есть старинная грамота, где очень наивно сказано по поводу верности подданных: Civibus fidelitas in reges quae tamen aliquoties seditionibus interrupta, multa peperit privilegia[37].)
В XV столетии Сена омывала пять островов, расположенных внутри парижской ограды: Волчий остров, где в те времена росли деревья, а ныне продают дрова; острова Коровий и Богоматери – оба пустынные, если не считать двух-трех лачуг, и оба представлявшие собой ленное владение парижского епископа (в XVII столетии оба эти острова соединили, застроили и назвали островом Святого Людовика); затем следовали Ситэ и примыкавший к нему островок Коровий Перевоз, с тех пор исчезнувший под насыпью Нового моста. В Ситэ в то время было пять мостов: три с правой стороны – каменные мосты Богоматери и Менял и деревянный Мельничный мост; два с левой стороны – каменный Малый мост и деревянный Сен-Мишель; все они были застроены домами. Университет имел шесть ворот, построенных Филиппом Августом; это были, начиная с башни Турнель, ворота Сен-Виктор, ворота Борделль, Папские, ворота Сен-Жак, Сен-Мишель и Сен-Жермен. Город имел также шесть ворот, построенных Карлом V, это были, начиная от башни Бильи, ворота Сент-Антуан, ворота Тампль, Сен-Мартен, Сен-Дени, ворота Монмартр, ворота Сент-Оноре. Все эти ворота были крепки и, что нисколько не мешало их прочности, красивы. Воды, поступавшие из Сены в широкий и глубокий ров, где во время зимнего половодья образовывалось сильное течение, омывали подножье городских стен вокруг всего Парижа. На ночь ворота запирались, реку на обоих концах города заграждали толстыми железными цепями, и Париж почивал спокойно.
С высоты птичьего полета эти три части – Ситэ, Университет и Город – представляли собою, каждая в отдельности, густую сеть причудливо перепутанных улиц. Тем не менее с первого взгляда становилось очевидным, что эти три отдельные части города составляют одно целое. Можно было сразу разглядеть две длинные параллельные улицы, тянувшиеся беспрерывно, без поворотов, почти по прямой линии; спускаясь перпендикулярно к Сене и пересекая все три города из конца в конец, с юга на север, они соединяли, связывали, смешивали их и, неустанно переливая людские волны из ограды одного города в ограду другого, превращали три города в один. Первая из этих улиц вела от ворот Сен-Жак к воротам Сен-Мартен; в Университете она называлась улицею Сен-Жак, в Ситэ – Еврейским кварталом, а в Городе – улицею Сен-Мартен; она дважды перебрасывалась через реку мостами Богоматери и Малым. Вторая называлась улицею Подъемного моста – на левом берегу, Бочарной улицею – на острове, улицею Сен-Дени – на правом берегу, мостом Сен-Мишель – на одном рукаве Сены, мостом Менял – на другом, и тянулась от ворот Сен-Мишель в Университете до ворот Сен-Дени в Городе. Словом, под всеми этими различными названиями скрывались все те же улицы, улицы-матери, улицы-прародительницы, две артерии Парижа. Все остальные вены этого тройного города либо питались от них, либо в них вливались.
Независимо от этих двух главных поперечных улиц, прорезавших Париж из края в край, во всю его ширину, и общих для всей столицы, Город и Университет, каждый в отдельности, имели свою собственную главную улицу, которая тянулась параллельно Сене и пересекала под прямым углом обе «артериальные» улицы. Таким образом, в Городе от ворот Сент-Антуан можно было по прямой линии спуститься к воротам Сент-Оноре, а в Университете – от ворот Сен-Виктор к воротам Сен-Жермен. Эти две большие дороги, скрещиваясь с двумя упомянутыми выше, представляли собою ту основу, на которой покоилась повсюду одинаково узловатая и густая, подобная лабиринту, сеть парижских улиц. Пристально вглядываясь в сливающийся рисунок этой сети, можно было различить, кроме того, как бы два пучка, расширяющихся один в сторону Университета, другой – в сторону Города: две связки больших улиц, которые шли, разветвляясь, от мостов к воротам.
Кое-что от этого геометрального плана сохранилось и доныне.
Какой же вид представлял город в целом с высоты башен собора Парижской Богоматери в 1482 году? Вот об этом-то мы и попытаемся рассказать.
Запыхавшийся зритель, взобравшись на самый верх собора, прежде всего был бы ослеплен зрелищем расстилавшихся внизу крыш, труб, улиц, мостов, площадей, шпилей, колоколен. Его взору одновременно представились бы: резной шипец, остроконечная кровля, башенка, повисшая на углу стены, каменная пирамида XI века, шиферный обелиск XV века, круглая гладкая башня замка, четырехугольная узорчатая колокольня церкви – и большое и малое, и массивное и воздушное. Его взор долго блуждал бы, проникая в различные глубины этого лабиринта, где все было отмечено своеобразием, гениальностью, целесообразностью и красотой; все было порождением искусства, начиная с самого маленького домика с расписным и лепным фасадом, наружными деревянными креплениями, с низкой аркой двери, с нависшими над ним верхними этажами и кончая величественным Лувром, окруженным в те времена колоннадой башен. Назовем те главные массивы зданий, которые вы прежде всего различите, освоившись в этом хаосе строений.
Прежде всего Ситэ. «Остров Ситэ, – говорит Соваль, у которого среди пустословия временами встречаются удачные выражения, – напоминает громадное судно, завязшее в тине и отнесенное ближе к середине Сены». Мы уже объясняли, что в XV столетии это «судно» было пришвартовано к обоим берегам реки пятью мостами. Эта форма острова, напоминающая корабль, поразила также и составителей геральдических книг. По словам Фавена{50} и Паскье{51}, только благодаря этому сходству, а вовсе не вследствие осады нормандцев, на древнем гербе Парижа изображено судно. Для человека, умеющего в нем разбираться, герб – алгебра, герб – язык. Вся история второй половины Средних веков запечатлена в геральдике, подобно тому как история первой их половины выражена в символике романских церквей. Это иероглифы феодализма, заменившие иероглифы теократии.
Итак, первое, что бросалось в глаза, был остров Ситэ, обращенный кормою на восток, а носом на запад. Став лицом к носу корабля, вы различали перед собой бесчисленный рой старых кровель, над которыми широко круглилась свинцовая крыша Сент-Шапель, похожая на спину слона, отягощенного своей башенкой. Но здесь этой башенкой был самый дерзновенный, самый отточенный, самый филигранный, самый прозрачный шпиль, сквозь кружевной конус которого когда-либо просвечивало небо. Перед собором Парижской Богоматери со стороны паперти расстилалась великолепная площадь, застроенная старинными домами, с вливающимися в нее тремя улицами. Южную сторону этой площади осенял весь изборожденный морщинами, угрюмый фасад госпиталя Отель-Дье с его словно покрытой волдырями и бородавками кровлей. Далее направо, налево, к востоку, к западу в этом сравнительно тесном пространстве Ситэ вздымались колокольни двадцати одной церкви различных эпох, разнообразных стилей, всевозможных размеров, начиная от приземистой и источенной червями романской колоколенки Сен-Дени-дю-Па, career Glaucini, и кончая тонкими иглами церквей Сен-Пьер-о-Беф и Сен-Ландри. Позади собора Парижской Богоматери на севере раскинулся монастырь с его готическими галереями; на юге – полуроманский епископский дворец; на востоке – пустынный мыс Терэн. В этом нагромождении домов можно было различить, по его высоким каменным ажурным навесам, украшавшим в ту эпоху все, даже слуховые окна дворцов, особняк, поднесенный городом в дар Ювеналу Дезюрсену при Карле VI; чуть подальше – просмоленные балаганы рынка Палюс; еще дальше – новые хоры старой церкви Сен-Жермен, удлиненные в 1458 году за счет улицы Фев; а еще дальше – то кишащий народом перекресток, то воздвигнутый на углу улицы вращающийся позорный столб, то остаток прекрасной мостовой Филиппа Августа – великолепно вымощенную посреди улицы дорожку для всадников, так неудачно замененную в XVI веке жалкой булыжной мостовой, именовавшейся «Мостовою Лиги», то пустынный внутренний дворик с одной из тех сквозных башенок, которые пристраивались к дому для внутренней винтовой лестницы, как это было принято в XV веке и образец которых еще и теперь можно встретить на улице Бурдоне. Наконец, вправо от Сент-Шапель, к западу, на самом берегу реки, разместилась группа башен Дворца правосудия. Высокие деревья королевских садов, разбитых на западной оконечности Ситэ, застилали от взора островок Коровьего Перевоза. Что касается воды, то с башен Собора Парижской Богоматери ее почти вовсе не было видно ни с той, ни с другой стороны: Сена скрывалась под мостами, а мосты под домами.