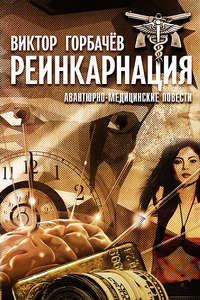Полная версия
Повесть о преждевременном. Авантюрно-медицинские повести

Виктор Горбачев
Повесть о преждевременном. Авантюрно-медицинские повести
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
Предисловие автора
Прошлое, настоящее, будущее… Светлое или тёмное, близкое-далёкое, счастливое или не очень… Но всегда живое, преходящее, творимое… На виду и герои каждого времени.
«Есть люди прошлого, люди будущего, люди вечного», – утверждал Николай Бердяев.
Имеет право быть межвременье – всегда смутное, случайное, непредсказуемое со своими мутными героями…
Забыли про преждевременное… Скорее всего, не хотим в нём копаться, ибо оно всегда безрадостно и обречённо…
Если преждевременные открытие, философия, искусство или ремесло – они безлимитны, они дозреют, то человек зажат временем, как смертник гарротой…
Печальна судьба преждевременных…
Пресс времени – это молва и мода, каноны и близорукость, косность и инстинкты, традиции и склад-уклад…
Преждевременный всегда одинок. Стадом выживать легче, поэтому оригиналов выживают, чтобы не мутил воду, не смущал и не возмущал…
У преждевременных во всём – налёт гениальности и эксклюзивности, поэтому они честолюбивы и обидчивы…
Их жгли на кострах, превращая в исчезающий пепел, пытали до отречения, гноили в забвении, и только наивная Вера в святую Истину помогала им выживать…
Семья им помеха, женщины – только те, что за ними в костёр…
Квёлые телом, легко ранимые душой, они любят славу, но больше всего боятся забвения…
Преждевременные всегда упоённо учатся, интуитивно чувствуя: чтобы «выстрелить», нужен солидный базис…
Удалённость их от времени настоящего есть прямая функция от степени цивилизации социума…
Правда, сильный маргинал имеет шанс стать на время вожаком, двинуть прогресс, подтянуть время, только вовсе не факт, что сонному стаду это во благо…
В норме же преждевременность – это осознанная обречённость, но для наблюдателя – отнюдь не тоска, а тайны и интриги…
Они, преждевременные, местами и временами случаются, и как с ними быть – никто толком не знает…
Стаду трудно понять, что выскочки эти – его, стада, золотой фонд…
«Повесть о преждевременном…», быть может, лишний раз заставит нас оглядеться и задуматься и где-то даже сориентироваться…
Свои герои у прошлого, настоящего и будущего…
И у преждевременного свои. Александр Леонидович Чижевский, «Леонардо да Винчи 20 века», – один из них…
Великая наука жить счастливо состоит в том, чтобы жить только в настоящем.
ПифагорУтопии часто оказываются лишь преждевременно высказанными истинами.
А. ЛамартинСолнце, сожги настоящее… Воимя грядущего… Но помилуй прошедшее…
Николай ГумилёвГлава 1. Новосёлы.
Мой путь поэта безызвестен,Натуралиста путь тревожен,А мне один покой лишь лестен,Но он как раз и невозможен…А. Чижевский«Дворянчик», – с явной завистью приклеил ярлык классовому врагу сидящий на заборе вихрастый пролетарий лет тринадцати, весь вылинялый от июльского солнца, удавшегося в Калуге лета 1913 года.
Ватага мальчишек со скучной на события улиц Ивановской, Васильевской и окрестностей в душе не возражала против заселения семьи военного в заново выкрашенный двухэтажный особняк. Какое-никакое оживление…
Ломовые извозчики, в схожих картузах и прилипших к спинам цветастых рубахах, обычно важные и задумчивые, теперь старательно суетились и матерились без злобы… Барин, видать, не жадный. А только чудно: военный, а книг – сто пудов…
Худосочный «дворянчик» с сосредоточенными, широко посаженными глазами из всего разгружаемого с подвод имущества поспешно и трепетно взял на руки какую-то завёрнутую в пёструю ткань трубу, похожую на самоварную.
«Папа, это чудо что за мезонин! Здесь хватит места и для телескопа, и для лаборатории», – восторженно горящие глаза юноши вызвали довольную улыбку на суровом лице отца, и даже бравые генеральские усы не смогли скрыть умиление.
Кадровый артиллерист Леонид Васильевич Чижевский был прямым потомком придворного Елизаветы Петровны – Петра Лазаревича Чижевского, которому императрица за верность Родине в 1743 году пожаловала потомственное дворянство. В роду было немало воинов, Георгиевских кавалеров, ходивших ещё под знамёнами Суворова и Кутузова; знаменитый адмирал П. С. Нахимов в их числе.
Ещё будучи поручиком, Леонид Васильевич изобрёл командирский угломер для стрельбы артиллерии по невидимой цели с закрытых позиций. Экспериментировал он и с ракетами конструкции генерала К. И. Константинова, но, как оказалось, преждевременно…
Не хоровод ли планет поставил на этот род Каинову печать преждевременности?..
Широчайшая эрудированность Леонида Васильевича и преданность Отечеству сказалась и после революции 1917 года. В Калуге он руководил курсами красных командиров, а после Гражданской войны даже получил почётное звание Героя Труда РККА.
Потеряв в тридцать семь лет горячо любимую жену, Леонид Васильевич не женился вторично и всецело посвятил себя воспитанию единственного сына – Александра, Шуры по-домашнему.
Любознательность мальчика поощрялась всемерно, средств на приобретение физических приборов и оборудования для химических и электрофизических опытов не жалелось. К услугам Шуры была и богатейшая библиотека отца.
Малышу был всего один год, когда от туберкулёза умерла его мать, поэтому воспитанием его, кроме отца, занимались бабушка и сестра отца, которую он и называл матерью. Не мудрено, что под воздействием двух высокообразованных женщин малыш полюбил музыку, поэзию и живопись. В возрасте четырёх лет он уже учил наизусть русские, немецкие и французские стихотворения, за что получал денежное вознаграждение от бабушки, которая сама, помимо этого, знала ещё английский, итальянский и шведский языки.
Вспоминая впоследствии детские годы, Александр напишет:
«Когда я сейчас ретроспективно просматриваю всю свою жизнь, я вижу, что основные магистрали её были заложены уже в раннем детстве и отчётливо проявили себя к девятому или десятому году жизни. Дисциплина поведения, дисциплина работы и дисциплина отдыха были привиты мне с самого детства. Полный достаток во всём и свободная ненуждаемость в детстве не только не изменили этих принципов, но, наоборот, обострили их. С детства я привык к постоянной работе».
С пяти лет Шура сам начал писать стихи, а во время оздоровительных поездок на юг Франции и Италии учился живописи у художника Гюстава Нодье, ученика ставшего впоследствии классиком импрессионизма Эдгара Дега.
Перед самым переездом из Польши в Калугу к Рождеству 1913 года в Варшаве для Шуры была куплена дорогая, с паспортом, скрипка итальянского мастера Давида Тэхлера. По преданиям на ней играл сам Паганини…
Шура без принуждения вполне прилично освоил инструмент, пробовал и сочинять. В минуты вдохновения, когда Шура музицировал, рисовал или, шагая по комнате, громко декламировал, бабушка с умилением располагалась снаружи у двери и в комнату к любимцу никого не пускала…
Особенно душевные стихи или музыка могли вызвать у Шуры слёзы умиления – эта проникновенность оставалась его брешью до последних дней.
Существовали, однако, и другие обстоятельства, определившие, в конце концов, жизненные приоритеты Шуры отнюдь не в пользу искусства.
Щедро одарив его всевозможными талантами, природа явно поскупилась на здоровье мальчика. Рос он хилым, болезненным ребёнком, с целым букетом болячек. Поездки на море приносили временные облегчения, чаще же всего Шура недомогал…
Сочетание любознательности и болезненности при этом имело странные результаты, часто удивлявшие и даже пугавшие взрослых. По своему состоянию мальчик научился точно предсказывать погоду. Можно предположить, что так и оформилась у него со временем тяга к научной медицине вообще и к влиянию на организм окружающей среды в частности.
А уж когда он однажды заявил, что намерен научиться лечить чахотку, погубившую его мамочку, бабушка и вовсе захлюпала носом и полезла за носовым платком, а отец понял ориентиры дальнейшего воспитания…
И ещё одно – домашний телескоп, подаренный ко дню рождения проницательным отцом. Загадочное звёздное небо, Луна и особенно Солнце заставляли сердце мальчика трепетать… Ночи напролёт проводил он за телескопом, днями искал ответы в звёздных атласах и других книгах на разных языках из богатой библиотеки отца.
В девять лет Шура написал свой первый трактат о звёздах, ввёл систему наблюдений за солнечными возмущениями. Казалось бы, классическое рождение классического учёного…
Народившаяся страна же, как оказалась, тяготела к избранности.
Или роды преждевременные, или страна недоношенная…
«На Яченку возьмём?» – Рыжий на заборе, видно, самый дружелюбный. Или самый млявый от Солнца…
«Ане пескарей не потребляють», – прищур Сутулого с шелухой от семечек на губах вполне мог означать укор и классовую непримиримость в будущем.
Шура, Шура… Ловил бы пескарей да семечки лущил… А ты – в солнцепоклонники…
Хотел бы я ходить за плугом,Солить грибы, сажать картошку,По вечерам с давнишним другомСражаться в карты понемножку.Обзавестись бы мне семьёю,Поняв, что дважды два – четыре,И жить меж небом и землёюВ труде, довольствии и мире.Ах, нет, душа волнений проситИ, непокорная рассудку,Мой утлый чёлн всегда заноситВ преотвратительную шутку.А. ЧижевскийГлава 2. Гений с Коровинской улицы.
Традиции и учебные программы калужского реального училища Фёдора Мефодьевича Шахмагонова не имели своими целями отыскивать и пестовать светочей отечественной науки. Одетые в одинаковую серую форму ученики почему-то вызывали у поступившего по переезду в шестой класс юного Александра Чижевского ассоциацию стриженных под горшок. Очень реальное было училище…
Без всякого восторга таскался он ежедневно в скучную коробку на Богоявленской, с нетерпением ожидая конца уроков, когда, наконец-то, дома займётся вещами более замечательными.
Учился неровно, что при наличии исследовательской упёртости и нескрываемой эрудированности, на фоне знания языков и владения музыкальными инструментами отнюдь не делало его любимым учеником, зато вызывало подозрения… Мало того, феноменальная память юного Чижевского часто раздражала и даже пугала господ учителей.
Конфликт назревал неотвратимо, как ячмень на глазу…
История умалчивает, чем руководствовался господин Шахмагонов, директор училища, доктор зоологии, когда в начале апреля 1914 года вместо урока по рисованию пригласил старшеклассников в общую залу на встречу с Константином Эдуардовичем Циолковским.
«Имейте в виду, господа, сегодня вы увидите человека выдающегося… Циолковский – учёный, изобретатель и философ. Внимательно слушайте его лекцию. Его идеям принадлежит большое будущее…»
Высокий, лобастый, бородатый старик с отрешённым поначалу взглядом вовсе не был Чижевскому знаком. Впрочем, как и всем остальным. Реакция же однокашников на учителя математики женского епархиального училища была однозначной: снисходительность, улыбки, открытые насмешки, нелестные сравнения…
Он вошёл быстрыми шагами, неся с собой какие-то овальные предметы, сделанные из белого металла, и свёрток чертежей. Большого роста, с открытым лбом, длинными волосами и чёрной седеющей бородой, он напоминал былинных поэтов и мыслителей. В то время Константину Эдуардовичу шёл пятьдесят седьмой год, но он казался старше из-за некоторой седины и сутулости. Тёмные глаза его говорили о бодрости духа и ясности ума, они светились, сияли и сверкали, когда он излагал свои идеи…
«Одет он был также по старинке: длинные, гармошкой складывающиеся чёрные брюки, длинный тёмно-серый пиджак, белая мягкая сорочка с отложным воротником, повязанная чёрным шёлковым шарфом. Костюм соответствовал его внешности: он был серьёзен, прост и не носил следа особой заботы, о чём свидетельствовало два-три маленьких пятна и отсутствие пуговицы на пиджаке. Простые хромовые ботинки также были основательно изношены»
(А. Л. Чижевский. «Необъяснимое явление»)
Сквозь шум в зале Александр не сразу расслышал тихий, усталый, но твёрдый голос Константина Эдуардовича. Когда же до его уха долетели слова «звёзды, Солнце, космоплавание, аэродинамика, ракетостроение, космическая баллистика», он насторожился:
«Кто этот странный, сутулый господин? Почему в губернской глуши школьный учитель говорит о Космосе?!»
«Непонятная и неожиданная человеческая громада», – напишет он потом в своей книге о К. Э. Циолковском.
А это и была всего-то судьба…
Зачитанные до дыр, капитальные по тому времени курсы астрофизики Юнга, Море, Эббота, Аррениуса возбуждали в юном мозгу тысячи неразрешимых вопросов…
«Понятно, что Солнце по большому счёту определяет собою Жизнь и Смерть на Земле, ясно, что полярные сияния и магнитные бури связаны с ним. Но вот эти циклы возмущений на светиле… Значит, на всём живом на Земле тоже должны быть отпечатки тех же циклов… У кого узнаешь…»
А тут ещё новомодный Жюль Верн… В 1895 году он написал:
«Плавучий остров посетит главные архипелаги восточной части Тихого океана, где воздух поразительно целебный, очень богатый кислородом, насыщенным электричеством, наделённым такими живительными свойствами, коих лишён кислород в обычном своём состоянии».
Откуда эту идею о кислороде, насыщенном электричеством, почерпнул знаменитый француз. Откуда?! Да, он пристально следил за опытами учёных, их высказываниями и все сведения заносил в специальную картотеку – огромное хранилище всевозможных идей, догадок, удачных и неудачных опытов, взлётов фантазии и намёков, которым некогда суждено будет, может быть, развиться в научные дисциплины. Огромная картотека Жюля Верна славилась по всему миру. Не потому ли на сегодняшний день из всех фантастов Жюль Верн – самый реализованный?!
Застрявший в юном мозгу вопрос о жюльверновском наэлектризованном кислороде неожиданно всплыл летом 1915 года в Петрограде, куда Александр приехал по делам учёбы.
Остановился он у мужа своей тётушки, Афанасия Семёновича Соловьёва, доктора медицины, главного врача Путиловского завода.
Он-то и подкинул пытливому племяннику вопросик от своего друга И. И. Кияницина.
Оказывается, если пропустить воздух через слой ваты толщиной не менее двадцати четырех сантиметров, то все животные в нём погибнут… Чудеса… Что теряется на вате и не доходит до животных?!
Хитрый доктор и дорожку указал: харьковский-де гигиенист Скворцов и одесский физик Пильчиков считают, дескать, что заряды атмосферного электричества застревают на вате, и животные гибнут вследствие их отсутствия. Кислород, якобы, потеряв электричество, перестаёт действовать как окислитель…
«Вот тебе, Шура, проблема на добрый десяток лет… Займись-ка ею. Ведь это дьявольски интересно. По-видимому, в этой области лежит большое научное открытие…»
Печатные анналы Калуги вопроса не прояснили, учёные авторитеты спасовали…
К Константину Эдуардовичу…
«Коровинская улица была одной из самых захудалых улиц Калуги. Она лежала далеко от центра города и была крайне неудобной для передвижения осенью, зимой и весной, ибо шла по самой круче высокого гористого берега Оки.
Дом Циолковского был самым крайним на Коровинской улице и был выстроен как раз в том месте, где гора кончается и переходит в ровное место, по которому и течёт Ока. Ходить по этой улице в дождь и особенно в гололедицу было делом весьма трудным. Улица была немощёной, с канавами по самой середине, с рытвинами и буераками, прорытыми весенними дождевыми потоками. Это мешало ездить по ней не только в рессорном экипаже, но и в телеге: здесь легко можно было сломать рессоры, ось у телеги или спицы у колеса.
По этой улице предпочтительно было только ходить пешком, да и то глядя в оба, как бы не сломать себе ногу. О том, что когда-то с телегой действительно произошла авария, свидетельствовало сломанное колесо, долгое время лежавшее в канаве посередине улицы. Тут же был вырыт глубокий колодец, обслуживающий жителей нижнего отрезка улицы.
Если зимой Коровинская улица представляла собой снежную гору, по которой даже самые отважные мальчишки вряд ли рисковали кататься на санках, то с наступлением весны картина резко менялась. По улице текли беспрерывные потоки мутной воды, направляющиеся сюда, как в сточную трубу, из лежащих выше улочек и переулков, из всех семидясети дворов, и несущие с собой разный мелкий хлам, сор и нечистоты, накопившиеся за шесть месяцев зимы.
Все эти грязные ручьи стремглав проносились мимо дома Циолковского и образовывали тут же, за домом, огромную лужу, которая иногда держалась до середины мая, пока земля не впитывала в себя влагу, и весеннее солнце не выпаривало её.
Вид отсюда был замечательный: Калуга с многочисленными церквами и позеленевшими садами наверху, живописно разбросанными на горе. Внизу, шагах в ста от дома, текла полноводная Ока. Слева (за рекой Яченкой) темнел знаменитый калужский бор – место прогулок молодёжи. А за рекой, среди зелени, вилось шоссе. Прямо на холме располагались сады, парки, дома и церковь.
Кабинет Циолковского, она же мастерская, она же спальня, на втором этаже ветхого домика завален заготовками для дирижаблей, моделями ракет, чертежами».
Великие умы часто занимали себя какой-либо механической работой: Спиноза шлифовал стёкла, Монтескье огородничал, Толстой ходил за плугом, Павлов играл в городки, Менделеев клеил чемоданы. Циолковский же любил слесарную и столярную работу.
«Могут ли циклы солнечной активности иметь влияние на мир растений животных и даже человека?»
Константин Эдуардович надолго задумался…
«Было бы совершенно непонятно, если бы такого действия не существовало. Такое влияние, конечно, существует и скрывается в любых статистических данных, охватывающих десятилетия и даже столетия. Вам придётся зарыться в статистику, касающуюся живого и сравнить одновременность циклов на Солнце и в живом мире.
А по поводу гибели животных в профильтрованном воздухе… Ну что же… Раз есть живая и мёртвая вода, почему бы не быть живому и мёртвому воздуху?!»
«Это здорово», – вдруг обрадованно воскликнул Константин Эдуардович.
«Это касается и моих работ по звёздоплаванию. Ведь человек при полёте в космос будет обречён дышать искусственным воздухом без всякого электричества. И если это так смертельно, то следует этот вопрос обсудить.
Если так, если не простой молекулярный кислород, а ионизированный в определённых порциях поддерживает жизнь, то это же противоречит современным взглядам – и тогда вы обречены на муки, непризнание и клевету. Это, имейте в виду, обязательно для таких больших деяний, и от этого вам не увильнуть.
В то же время, это очень заманчиво – на вашем месте я бы попробовал и не обращал бы внимания на мосек, которые, конечно, будут лаять на вас даже тогда, когда весь мир признает ценность ваших работ, и академики увенчают вас лаврами. Моськи будут лаять… Это – общий закон…»
Вот так: старый рвался заселить далёкие планеты, молодого заботило влияние Космоса на Землю…
И ведь оба знали про мосек, но явно недооценили особенности отечественной породы…
О, человек, о, как напрасноТвоё величье на Земли,Когда ты – призрак, блик неясныйИз пролетающей пыли…А. Чижевский1915 г.Глава 3. «Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после нас».
«Папа, мы с тобой должны непременно посетить Козельск», – заявил однажды Шура по приходу из училища.
«Что так?» – генерал всегда вполне серьёзно относился к любой инициативе сына.
«Сегодняшний урок истории показал, что в обороне Козельска от татаро-монголов есть много непонятного… Концы с концами не сходятся.
Сам посуди: почти пятьдесят суток ордынцы топтались под стенами этого крошечного городка. И это при том, что он им вообще был не нужен – ни богатства там особого, ни какого-то стратегического значения. Рязань, Владимир, Галич пали за несколько дней… А тут, понимаешь, битва почти как за Киев…
Поэтому интересно взглянуть, что там за неприступная крепость такая. Тем более, что это совсем рядом, всего семьдесят вёрст».
«Принял к сведению», – по-военному отрапортовал отец, и это означало, что с сего момента началась их обоюдная подготовка к поездке. Традиционно активная, надо сказать, подготовка.
Изучалась вся доступная литература, посещались ещё раз все музеи, опрашивались все краеведы и тому подобное.
В истоках будущего широчайшего научного диапазона профессора Чижевского – Леонардо да-Винчи 20 века – и такая научная строгость и тщательность в том числе.
«Обрати внимание на берега», – показал рукой отец, когда они пересекали Оку.
«Метров семь, не иначе, подъём воды был. А в Козельске две реки сходятся – Жиздра и Другусна. Стало быть, две “большие воды” по весне. Вот тебе и рубеж труднодоступный. Распутица, брат, для военных – сущая канитель…»
«Фортификация достаточно грамотная», – помесивши изрядно окрестную грязь, констатировал генерал.
«Оно, конечно, и распутица, и укрепления – вещи немаловажные, могут статься при обороне и решающими. Но в случае с Козельском имеют право на существование и другие версии. Скажем, передовые войска просто стояли и ждали подхода основных сил. К тому же не исключено, что сказывалась общая потрёпанность в недавних сражениях, и требовалось зализать раны…»
«А я читал, – проявил осведомлённость Шура, – что монголы просто мстили городу за давнее убийство послов бывшим козельским князем Мстиславом Святославовичем».
«Слабая версия, потому как смоленский князь, например, тоже был участником того позорного убийства. Да и богатый торговый город Смоленск куда как более заманчивая добыча для алчущих ордынцев, чем захудалый Козельск. Ан нет. Смоленск вообще никогда татаро-монголами не штурмовался…
И чего вдруг тогда Батый на Новгород не пошёл?! Вот как раз распутицы-то никакой и не было, а совсем даже наоборот, и конница могла форсированным маршем идти по замёрзшим рекам и озёрам…
Но давай на время оставим в покое Козельск и поговорим о более позднем “стоянии” на нашей Угре. Здесь загадок не меньше.
Иван Третий – великий князь московский, государь Всея Руси – на одном берегу Угры, на другом – татарский хан Ахмат. Тоже долго стояли, несколько месяцев друг за другом поглядывали. Потом татары вдруг снялись и понеслись во весь опор домой, в степи, и это считается концом “ордынского ига” на Руси.
Но это было потом. А до того Иван Третий продемонстрировал, что он совсем не горит желанием сражаться с ордынцами. Епископ Вассиан употребил всё своё красноречие и эмоции, даже угрожал отречением от церкви, и всё для того, чтобы убедить государя выйти на защиту своей страны… Наконец-то государь соизволил пройти с войском двести вёрст и расположиться лагерем на левом берегу Угры…
А дальше, во время стояния, и вовсе странные вещи начались…
Ахмат хочет вести переговоры с государем и объяснить, наконец, чего из степей на Угру припёрся, а государь… не желает вообще с ним общаться… Вообще молчок: ни государь, ни послы – полная обструкция хану.
Представляешь, несколько месяцев тысячи и тысячи воинов с обеих сторон просто уничтожают провиант в полном бездействии…
Потом вдруг, в один момент, татары тоже молчком исчезают, оставляя правый берег Угры в кострищах, лагерном мусоре и конском навозе…
Теперь для поиска истины давай попробуем выстроить общую картину татаро-монгольского нашествия, без деталей, как в школе учат.
В начале 13 века в монгольских степях самый живучий хан – Чингисхан – всеми правдами и неправдами собрал кочевые племена в одну армию, наладил в ней железный порядок и надумал завоевать весь мир… Начал с Китая, потом вышел на Русь, потом уже его внук, хан Батый, пожёг Польшу, Чехию и вышел к Адриатическому морю.