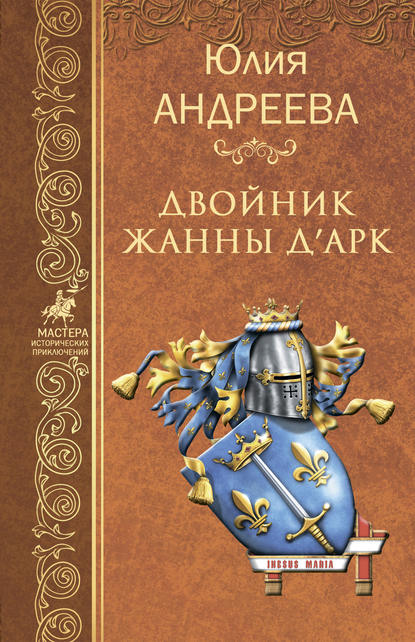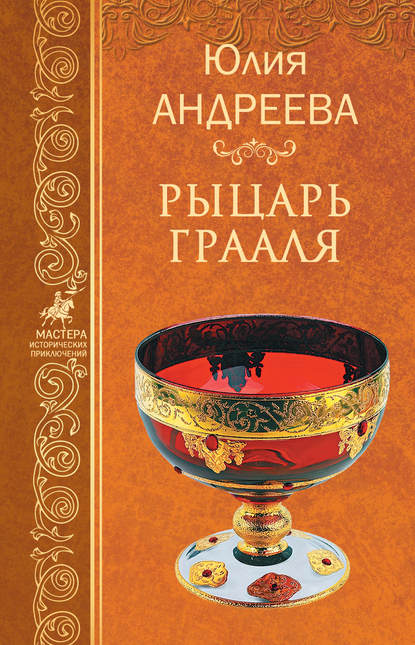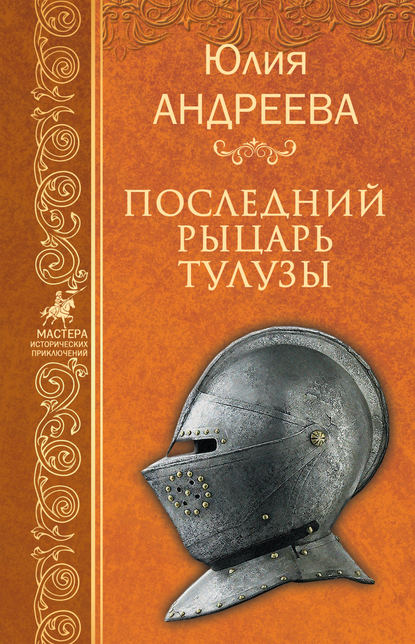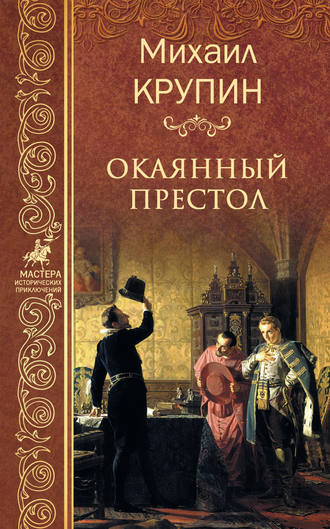
Полная версия
Окаянный престол
Тут из строя духовенства выбился волнующийся молодой игумен.
– Государь православный, надежа, попытай и меня, – выкликнул он, – я тоже зрить здоров – версты не доезжая, в монастырском стаде всех бычков и телочек сочту!
– Если так, – посуровел царь, – глянь мне в даль: какие звери ходят в Африке?
Отрепьев ясно помнил, как срезался сам на животном мире Индии – мактиторах и саламандрах, и приготовился хохотать сам.
Архимандрит сощурился изо всех сил и стал читать по «Индикополóву», раскрытому тайно товарищем за спиной царя:
– По Африке идет… «единорог, таков есть утварью яко кобыла, имат един рог, иже есть четырех ступеней, есть светел и сечет как меч. И вельми то животное грозно есть: всех противящихся ему истязает рогом своим…»
Архимандрит прервался – проморгаться и перевести дыхание, и сразу услыхал хихикающих умников.
– Нет, это ты, свят отец, пальцем в небо, а там одно поветрие побасенное! Нет в свете сих существ с благородным передним рогом! Им и не бывать ни «ныне и присно», ни всегда!..
Разумного царя кто-то уверенно потрогал склоненным челом за рукав – это епископ Игнатий все был рядом, выпрямился, улыбался:
– А вот и есть, мила надежа-государь! Зверь-носорог пасется в Африке – бычун! Правду мой брат молвил.
Бучинский и полуполковник Иваницкий подтвердили нехотя реальность зверя.
Архимандрит благодарно взглянул на Игнатия и приосанился.
– Хорошо, продолжай – еще кто там водится? – указал ему уже серьезно царь. – Да не заглядывай за плечи мне – там наш север, а не африканский юг. Не труди глазки, сокол, – по чести, памяти теперь ответствуй.
Игумен порозовел, зажмурился уже для памяти:
– Тамо же есть… в воде глисты… сиречь черви, имеющие две руци, аки человеки… есть длиной в сажень и в локоть, толь сильны – елефанта поймая, влечет в воду и истлевает!
Отрепьев собрался захохотать, а Игнатий опять тронул его:
– И таковые на плаву. Это же аллигаторы.
– А у вас в Рязани и грибы с глазами есть? – не сдержался царь, тише добавил Игнатию только, – што ты дури норовишь? Сам не желаешь в патриархи?
– Ох, желаю! – признался в бороде Игнатий. – Но вот я, батюшка, шепну тебе, только худом уж меня не вспоминай: всяк остросмыслый муж суть алхимист душ человеческих, то есть он ищет способов – врагов в друзей чудесно обращать, как говна в золотинки.
Минуло дня три с того утра, как Священным собором был избран патриархом всей Руси ахеянин Игнатий – и восхищение царя бесценной залежью познаний и филигранной отточкой суждений нового владыки возросло самое меньшее втрое. Но вместе с восторгом прибывала и неясная тревога, несильная, но увлекающая – как костное нытье. Не успевшие преобразиться в друзей, недоброжелатели Игнатия рассказали царю, что грек страстно пьет.
– Нет, с этим все! – сразу ответил Игнатий на грустный вопрос Дмитрия. – В епископах попивал, греха не потаю, а ноне – нет и нет!.. Да почему лопал прежде? Знал: тутошние отцы выше епископа все одно эллину не дадут подняться, sed alia tempora теперь, совсем другая fata!..
– Смотри, Игнат, – покачал царь головой, – опять не заскучай. Ведь выше патриарха я тебе дать росту тоже не смогу. Разве что, когда Европу покорю, на место папы римского?
– Не заскучаю, даже не тревожься, Мить, – успокаивал патриарх. – То я во мгле рязанской прозябал, а ныне ежесуточно вкушаю просвещенную беседу моего царя, либо его свободных разумением ксендзов, полковников и капитанов!
Отрепьев подумал, что общение с польскими капитанами тоже не самый прямой путь к благочестию и трезвости и намекнул о том Игнатию.
– Мы ж сорокалетних бочек меда не касаемся, – оправдался свободно Игнатий, – так, цедим фряжское или романское…
– Владыко, с легоньких винишек-то надежнее спьянишься богомерзки! – остерег знающе царь и вдруг различил, не зрением, а только чуть дрогнувшим чувством, за непроницаемой бородой грека улыбку тонкого высокомерия.
– Мой корпус совсем одебил, государь, – брякнул грек на обрусевшей латыни, со вздохом потерявшего надежду лекаря. – Хмель же и расширит, и смягчит во человеце телесный сосуд, таков уж способ действия природы, в нем же несть греха.
«Как ловко выворачивается сей всезнайка, а я…», – хотел подумать государь, но только взял благословение, выходя от патриарха, – махнул рукой.
Да нет, досадливо саднящая тревога была не в том, силен ли выпить новый патриарх… Но в чем же?
Отрепьев выбрал бархатные кисточки из петель ворота, вздохнул поглубже, наделяя воздухом и кровью медленно задумавшееся сердце. В груди немного прояснилось, мысли же совсем отошли, и над сердцем проступил зачем-то лик приходского галического дьячка – из бескрайнего и царственного края детства.
В конце ноября, когда Юшке Отрепьеву стало семь лет, призванный отцом в избу священник отслужил покровителю мысли святому Науму молебен и полил голову мальчика, как слабый саженец, прохладною водой. Вслед за священником в избу вошел и сам учитель, дьячок той же церкви. Отец поклонился ему, а мать, подводя сыночка Юрочку, запричитала, промокая кончиками ситцевого платка страшные – от ожидания всех скорбей сыну – глаза.
Отец горячо попросил учителя за леность учащать побои Юрию, и совсем передал ему ученика. Но дьячок сам улыбнулся Юшке ищуще и ласково, – Юшка, забыв сразу об опаске и волнении, смело встал на колени, трижды, как мать с отцом велели, бесстучно лбом коснулся пола, потом учитель трижды же мазнул его небольно плеткой по спине. Так открылось «книжное научение».
Учитель раскрыл азбуку и начал с «аза». Мать заголосила пуще, умоляя дьячка не уморить сына. Юшка, опять начиная робеть – заодно с матерью, протянул – котенком с пчелой на хвосте – вслед за дьячком – «а-а-а-ззз», и по настоянию его отыскал еще три «аза» в той же книге. Тогда учитель погладил его по голове, встал и важно объявил, что первый урок кончился.
На другой день Юшка так отчаянно и чутко ждал первого своего учителя с вторым уроком, что жажды этой, казалось, могло бы хватить на изученье всех ведомых Земле азов – во все дни божии до дня последнего.
Уже первого декабря Юшка понесся, не оглянувшись на заплаканную маму, в школу. Едва отдышась, сел там на краешек лавки, упер ногу в стену и, резко ее распрямив, смел с ученической скамьи ранее вошедших и рассевшихся ровесников. Быстро и крепко уселся к месту наставника ближе всех. Вошедший дьячок всех благословил и, занимая свой стол, подсадил на колени себе двух самых щупленьких учеников, выжатых со скамьи нагрянувшим Отрепьевым. В продолжение занятия преподаватель несколько раз легонько дул в светлые макушки маленьких, и золотая легкая волна прокатывалась у тех по головам, и вместе, наставник и все дети, тихо смеялись.
– …Обскажу-тка же я вам, – говорил наставник средь занятия, – отчего зачалось Солнце красное, отчего зачались ветры буйные, отчего зачался у нас белый свет? – И обсказывал: – А Солнце наше Красное – от лица Божьего, самого Христа царя небесного, млад светел месяц – от грудей его отца. А зори ясные – от ризы мамы Боговой, а ветры буйные – от святаго Духа…
Дети молчали – по-разному заворожась, все понимая.
После кремлевского тихого часа в Палату с докладом вошел ближний «сенат». Услышав его мягкий шаг, царь быстро погасил на стенках потайные лучики и снял бесшумно сапоги.
– Вести из Сыскного дома, царь Димитр, – начал Бучинский, раздвигая парчовые занавеси, – князь Василий признал все, что угодно Басманову. Младшие братья его поломались, поспорили было на дыбе, но тоже винятся сейчас…
– Что ж Петр Федорович отчитаться сам не подошел? – перебил Отрепьев, ловя ногами сапоги. Сутупов-дьяк прыгнул на корточки, ловко проволок по царской ножке тимовое голенище – причем, отвечая:
– Басманов завтра отчитается, отец мой. На своем подворье он… Отходит после пытки.
Отрепьев в удивлении скосился на моргающего виновато из-под клюквенного сапожка Сутупова: ох, надо бы возможно скорей разыскать замену на пост главы сыска Басманову, сохранив за ним только Стрелецкий приказ.
Полковник Дворжецкий, готовя свое, извлек тем временем из кошелька несколько небольших, но благородно блестящих предметов.
– Эти реликвии двора, сколько могу судить по гербовым насечкам, – пошел он негромко почеканивать, как дошла до него очередь, – были предложены мне русским неброским человеком сегодня на торгу. Московит сразу же препровожден мною за холку в злобный дом…
– Разбойный приказ? – переспросил дьяк Сутупов.
– Дзенкуе, точно так. Судя также по закупкам моих жолнеров, гуляют по базарам и вещицы поважнее. Изумрудные кадила – а по виду русские уменьшенные храмы, лаковые лебеди-ковши, ковровые травы – тканные. Зная, очевидно, что мои поляки от государя получили за поход кое-какие суммы, московиты, грабившие по дворцам при низложении последних Годуновых, и сбагривают все моим!..
Царь покрутил в руках поданные Дворжецким золоченые братинки с гербовыми «мишенями» по днам – двуглавыми орлами в черневых кругах, под чернью же стеблей в росе речного жемчуга и ягодах-лалах далеко снаружи. Взял – чуть не уронил, сжал дрогнувшей щепоткой панагию из двухслойного агата с резаным распятием, знакомую – до страха и хохота где-то в пусте души. Он повернул камею панагии оборотной стороной, чего никак не мог, будучи чудовским дьяконом, и прочитал: «царем Федором Иоановичем и царицей Ириною возложена 26 януария 1589 лета на патриарха Руси перваго Иова, в день поставленья его.»
Дьяк Власьев и служилый князь Рубец-Мосальский, советники из ближней думы, кисло переглянулись за спиной Дворжецкого; ухмылкой вознегодовал Бучинский: вот ядовитый чистоплюй, выбрал же время благородно доносить царю на его подданных и на свое же войско. Начни чистить сейчас по базарам, возвращать вещи в казну, – только смутишь самых легких, лихих на подъем московлян, тех самых, чьими рьяными глотками и твердыми пинками трон Годуновых был наказан окончательно, ниц уронена перед царевичем Москва. Ну, сунул такой гневный мещанин в штаны кремлевскую братинку или наутилус, так ведь он животом за царя рисковал. К тому же не расчел в запале, что у восприемника крадет, – хватал-то у проклятых Годуновых. Да ладно, русская казна не захиреет, по высоким башням да глубоким погребкам, по тайникам соборов, добра долго не избыть… И то же, если проверять покупки у поляков. Можно рыцарство не в шутку огорчить.
– Замечу пану, обрушиться на виноватого легче всего, – заслонил Дмитрия от щепетильного воина первым Бучинский. – А поставьте так: какой цивильный властелин препятствует обогащению собственных граждан? Уже известно, чем состоятельней податной смерд, тем богаче и его хозяин.
– Я – жолнер, пане, а не эконом, – выпучил глаза Дворжецкий, – и никак не разберу, много ли разживется государство оттого, что у него крадут?!
– Сметливый и проворный человек, – отвечал полковнику Бучинский, при этом оборачиваясь поочередно ко всем, – каковы большинство людей простого звания, пустит сразу же злотые в дело, шире развернет свой торг, и государь, взыскуя подати с прохвоста, вернет потерю не один раз. А то какой-нибудь рубиновый черпак или брелок ползалы озаряет зря, ждет, когда владетель подойдет причаститься от него разок в году или отправит в честь крестин дальнему брату-королю даром.
Советники погукивали по-совиному в согласии, но все не размыкал серебряные брови над чистоганами глаз пан Дворжецкий, и царь, отложив камею Иова, начал прислушиваться к разговору.
– Да все большие состояния Европы имеют в основании разбой, – продолжил Ян. – Плавают отчаянные головы, пираты ли – на скакунах по степям, или татары – на корветах морем, пьют кумыс с грогом да побивают картечью своих и чужих. Так делают деньги. А потом пожилой флибустьер сходит без шума на берег, заводит вкусную таверну, мануфактуру в тысячу станков…
– Безусловно, оно так и есть, – поддержал с чувством служилый князь Рубец-Мосальский, тоже хранивший предания о своих пращурах – ночных кошмарах вотчинных князей. – Сын этого татя в наследном удовольствии не виноват, а внук и знать не будет… какой мотыгою делан виноград деда его.
– Как хорошо, плавно, Господи, как по писанию! – умилялся тихо рядом дьяк Сутупов, знавший, что все аллегорические велеречия ведутся от колена книги об одной теплой стране. Наконец и взор Дворжецкого смиренно помутился. Блуждавший в стороне от прения старик, нянчивший некогда в люльке царевича, шарил ферязью по граням бархатных скамеек, мягко трогал витые шандальцы пальцами. Он эту палату помнил со времени Грозного, когда такие птицы, как Сутупов и Рубец-Мосальский, не говоря уже о борзых полячках, и ступить не смели на порог Великих Теремов. Конечно, свежая шуба чище державу метет, чаще шепчет государю дело, все знает шубоносец древний, а все ж таки положит искушенный, во всяком случае искусанный рукав свой поперек.
– Время божие, знамо, сором заровняет и худо убытка в прибыток добра обратит, – заговорил будто сам для себя Богдан Яковлевич Бельский – издали, но низкий голос оружничего, только пряча лишний гул в замшь стенок, шел ясно к каждому. – Но вот строил я пять лет тому прочь крепость-Цареву на казачьем рубеже, и казенные ленивцы-мужички мне сперва сплавили из какого-то болота тленный лес. Само собой, я тот народ – под плети скоренько и заново – в работу: одолевать ладные дерева. А времени-то, слышь ты, а коней – тяжеловозов – жаль: я тот топляк сваями в берег и врой. Вижу, косогор тамошний и без опор твердо глядит, сверху наклал еще белого буту и на таковой подошве уже тын из отменного дуба вознес. А теперь, братцы-думцы, спрошу вас: слыхивали вы, как разливается речка Ныр?
– Воображаем, пан оружничий, – нетерпеливо ответил Бучинский, – но не возьмем в толк, при чем здесь разливы Нила, коли ты городил острог на Северном Донце?
– Так вот, веришь ли, мой пан-без-чин, тая самая мысль и меня тогда утешила, – преувеличенно порадовался Бельский. – А русской весной как обычно – нежданно, негаданно – воды как взыграло да закрутило ключами ручьи – все гнилые сваи зажевало, и мой бережок поехал вниз. Тут и верхние стрельницы зубы в стыках расцепили – все, по бревнышку, скатились в воду – туда же, отколе плотами пришли. Коли пытолюбству вашему надобен делу венец – вот он, простой: дабы зряшностью трат не попасть на Борисов правеж, – мне, безпортошному, пришлось своей копеечкой и личным мужичком до ума тот тын тянуть. Что ж, дотянул гоже, – между сутью заметил старик, – суть не в тем. А вот – хоть наперво и оплошал, да потом поиздержался, но доказал себе примерно – на гнилой основе добрых стен уже не свесть.
– Пример пана – не то дерево, – заговорил наконец-то Бучинский, давно державший начеку язык. – От какого гнилья в основании общества остерегает пан зодчий? В нашем-то случае в фундамент поступили вещи из лучших каменьев и золота!
Богдан Бельский посмотрел на Яна с диким пониманием – как на дальнюю иноязыкую родню; быстро повел глазом на царя. Но Дмитрий стоял к окну лицом, тело и лоб уперев в стрельчатый свод, – его крутой отвлеченный затылок можно толковать, как кому угодно, – никому не понять правильно.
– А завидую я вам, – молвил Дмитрий позднее, гуляя вдоль разубранных стен и сундуков оружейного покоя в сопровождении Бучинского. – Каждый нашел по себе дело. Кто спорит о нравах, кто взбрасывает недруга на дыбу, кто на дыбе трещит… – все заняты. Один я…
– Твоя ли милость жалуется? – подхватил Ян, внимательно по ходу палаты выбирая оружие по себе. – Уж старый дворик Годуновых моего царя не занимает?
Облюбовав два легких клинка, Бучинский завращал их всячески в руках – всполохами выстлались огни каменьев и речений из Корана на черненой стали.
– Янек, сам знаешь, ты мне как брат, – с душою выговорил государь. – Но этот старый дворик – не твое свинячье дело.
– Бардзо дзенкуе, цесарь сердца моего, – с лета остановил сабли, словно врубив мертво в воздух – принял рыцарскую стойку обороны Ян. – Но цесарь еще попривыкнет к мысли, что каждый его частный шаг – суть дело всех: от щенка последнего псаря до родовитых сук на вотчинных гербах…
Дмитрий махнул вяло перед собой булавой, посеребренной между золотых колючек.
– Малакуйтесь у высочайших почивален. Мне скучней в них от того уже не станется.
– А наши новые друзья, поди, толкуют, что их царь ночами сладко утружден… – отступая перед булавою друга, из-за своих мечей продолжал ненавязчиво Ян.
Дмитрий хотел вдарить палицей об пол, но придержал ее – рынды сбегутся на звук.
– Сам!.. помолчи. Сам знаешь, что я не насильник, и дела мои в том теремке – неподвижные.
– Мне-то известен обычай царя-рыцаря, – быстро отшагнув назад, Ян – как бы вышел из боя, расслабленно оперся на мечи. – Но наши новые друзья… Все эти полуживотные с бородами диких туров, ползающие зимой и летом в длинношерстных одеялах… Эти друзья едва ли в состоянии поверить – что молодой, в полном достоинстве мужчина, всегда имея над прелестницей всю власть, способен в то же время саму панну не иметь!
– И что делать? – косо ссутулился Дмитрий над тяжелеющей помалу булавой.
– Выходы есть, Димитр…
Солнечные лучики, пробравшиеся и в этот чертог, защекотали золотом усы Яна, не то мешая, не то радуясь всему, к чему он вел.
– …Свести бы хоть с местных палат. Хоть к Рубцу-Мосальскому на ближний двор. Уж пускай служивый греховодником слывет!
– Брось, князь – дед бездетный.
– Даже лучше! Молва перевернется: мол, царем обласкан преданный старик – жалована ему живая дочка!
– Скорее уж внучка. Снегурочка, – слабо улыбнулся Дмитрий.
Бучинский мягко подхохотал, но на вдохе унял свой смех – застать на выдохе улыбку царя, успеть раскатить другу под небрежную веселую походку мысли дальнюю свою дорожку.
– Итак, мы видим, как полезен ход Кшисей на клеть князя Рубца. Но можно пойти и сильней… О как я понимаю моего пана души, все чувства заняты одною дамою! – Ян ловко попал – запустил клинок в оправленные крупным виниусом ножны и начал те ножны цеплять к своему поясу. – Тогда все остальное поневоле отзывает пустой скукою. Но признай: сластолюбивые забавы хороши для мальчика, лениво подрастающего в отчем доме, и невместны великому мужу. Дела его грозной и сложной державы для него не могут быть скучны.
Дмитрий уныло кивнул и подвесил на стенку тяжелую палицу. Янек продолжил добрее.
– Мы видим, надобно хоть временно очнуться от дурмана. Трезво сказать – на Руси красавиц на век цесарев хватит, Кшися из них – лишь одна. Но кто есть Кшися? Последний свет в бойнице всех этих племянников, сопливых соплеменников Бориса, ныне высланных Сабуров да Вельяминовых. Вся их мечта – когда-нибудь опять привить к престолу древо Годуново. А это через отростки из чрева Кшисина – ближе всего. – Бучинский, приостановясь, всмотрелся и истолковал двинувшееся лицо Дмитрия к своей пользе. – Их надежды, понятно, – тупик полный, но хлопот добавить могут. Вспомни уроки истории в Гоще. Логика веков учит нас не запускать ветвей опасного родства. Рано, поздно ли такая ветка помешает, но пока она тонка, может быть разом срезана. Выброшена далеко с торной дороги.
Бучинский тяжело – за себя и за царя – перевел дух:
– Не лучше ли споспешествовать этому теперь, когда сам Шуйский под колючею шапкой Басманова? Уж бы к делу княжеского заговора и девочку подшить – Шуйские, на колесе, я чаю, быстро примут ее в свою шайку. А там, сам нагадай, чего ей – путь-дорога в сказочные льды, Снегурочке?.. Впрочем, коли великосердный цесарь сжалится, – будто под нос себе рассуждал Бучинский, гадая над остывшим лицом цесаря, присевшего на край распахнутого сундука в оковке, – коли захочет спасти бывшую свою странную симпатию от ужасов холода и одиночества, а пуще – оградить от междоусобий свой край – так и это в его власти: строптивицу всегда можно нежно избавить от мук…
Дмитрий что-то поискал в сундуке, на котором сидел. Без слова встал, прошел к второму сундуку – отворил с сиплым визгом второй… Перешел к третьему.
– Кабы ведал государь души моей, как душе трудно, – уже заключал Ян, – грустно как – об эдаком напоминать… Но таково бремя большого друга и советчика.
Дмитрий отыскал-таки в ларцах нарядную пистолю. Покатал по дну ящика пульки – наловил покрупней. Сыпанул из мешочка с вышитым брусничным листом (без брусники – кем-то, видно, собранной), на полку пороху. Макнул затравку, витую из канитель-нити – не для войны, для царственного любования, в плошку под свечой и наживил на фитилек от свечки радостного мотылька. И поднял пистолю на Яна Бучинского.
Ближний сподвижник еще улыбался – думая, что царь решил развлечь его, пугая. Но Дмитрий накрепко зажал курком затравку и прицеливал ствол все точнее – промеж глаз Бучинского.
– Милостиво избавляю тебя, Ян, от земных мук и разрешаю от дружьего бремени, – выговорил Дмитрий так покойно, как одержимый невозмутимостью.
Мотылек в оправе черных нитей вянущего на глазах запала все ближе подбирался к полке, а государь и не думал унять его вольной жизни или хоть отвести оружие от человека прочь. Улыбка Бучинского, захолонув, перешла в жуткий оскал. Не помня как, Ян кинулся вбок – к яркой стенке. Оттолкнувшись от колчанов и мечей – к другой. И так, звонным зигзагом, опрокидывая на ходу стоячие кирасы, сцарапывая с ковров вооружение, поскакал к дверям. Позади него с лязгом, грохотом валились брони и щиты, русские боевые топоры и сбитые с ног западные латы, а Яну казалось, что изо всех пистолей и аркебуз зала бьет по нему государь.
Чудом выскочив в сени, Бучинский помчал по дворцу. Пнул двери Прихожей палаты и застыл, остановленный спертым, стальным духом смиренно насиженного помещения.
Навстречу царскому наперснику поднялось несколько меховых станов: Голицын, Сутупов, Молчанов и Шерефединов удивленно глядели ему в поседелое лицо и на покачивающиеся не в лад на его поясе клинки в ярких ножнах.
– Соколик… благодетель Яня, – сказал, задышав тоже мельче, Сутупов, – ну как тамо-тка?
Ян, войдя в Прихожку окончательно, растер по лбу пар и присел на лавку:
– Нет… никак… Да я чуть не убит… Чтобы еще хоть раз! – наперсник расстегнул ворот, полез за атлабас рукой.
– Ты сказывал ли, что живот ее еще опасен? – спросил в тоске, не зная, как понять и обмануть неудачу, Сутупов. – А баял, что она – бесов послушница и ворожит, чтоб переманить к себе от всех важнецких дел царя?
– Как об корону горох… – мотал вихрами поляк. Нашарил за потайной пазухой, вынул и протянул думным сенаторам камешек – розовый альмандин.
– А ты остерегал царя, – влез Шерефединов, – что кызбола в Сарае суть тамыр есть – корень зла?
– Приберите обратно, – настойчиво протягивал Сутупову лучистый шарик Ян. – Я ничего не должен вам, и вы мне не должны… Мне сей предмет не надобен.
Дьяк Сутупов скользью глянул на усыпанные крупной клюквой лалов и росой венисов сабли на кушаке у Бучинского: и впрямь ляху не надобен маленький альмандин.
Бояре припотупились. Нельзя, нельзя держать близ молодого цесаря прелестницу-бедняжку. Ополоснет огневой влагой зениц, натуго обвяжет телесами – а там злопамятьем своим и наведет государя на врагов своих неотомщенных. На распорядителя смерти над мамкой и братцем – холоднокровного думца Голицына, на согласного смотрителя – Сутупова, на душителя – Шерефединова да Молчанова-дьяка – за ноги держачего.
Дмитрий все холодней день ото дня к прежним любимцам, так и веет студено из царской души. Час неровен: принесет этот ветер приватный указ, погонит этот ветер в спину батогом – в пермяцкие леса, сорвет с головы шапку-боярку, а то скинет и голову. Катнет слабую в полую даль – ту, о которой и не думать страшно.
– Ну что ты, Яня, что ты? – чуть отклонил руку Бучинского с камнем Сутупов. – То ж не в обиду, не во мзду, так – подарок, безделка на память. Спрячь скоре, не обижай…
Янек подумал, подергал атласными бровками и, приподняв плечи, как через силу – с подарком впуская за ворот неодолимую усталость, убрал альмандин.
Шерефединов сразу сел и ухватился руками за бритую голову:
– Уш кабы я был польский друг бачки-падиша, я бы нашел, каким словом в него мысл вертать!
– Ну, каким словом?
– Я бы сказал: вспомни, как говорят досточтенные старики в наших Ногаях…
– Стой, ты же советуешь от лица польского друга, – перебили его.
– …Говорят старики в нашей Польше, – поправился Шерефединов, – они говорят: «Орысны айдхан сезлер дыгнемесе! Ахай олурсэн!»
Казнь
В сыскном подполе разговор с князем Василием Шуйским вышел короткий. Князь под пол только заглянул – завидел три ненастные свечи, обмирающие от сырой тьмы, столбы – равномощные тени, кем-то отброшенные из-под земли, несложную ременную петлю под перекладиной и в черной смрадной луже затвердевшее бревно противовеса. Уперся Шуйский из последней мужской, оттого зверской силы, скованными ногами в косяки узких дверей и на пытку не пошел. Заголосил благим блеянием – мол, повинюсь во всем правдиво и пространно. И здесь же, враз, сев на приступке крутой лесенки, на все вопросы сыскной сказки дал утвердительный ответ: все так и еще как! – умышлял, витийствовал, озоровал, каверзовал, склонял, ярился, привлекался…