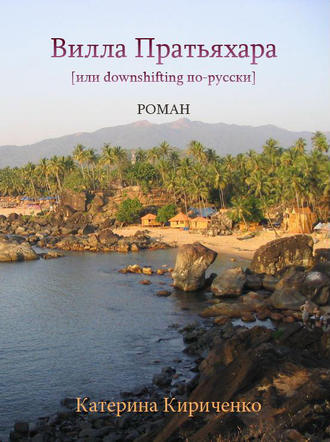
Полная версия
Вилла Пратьяхара
Последние лет пять или шесть Жанна состоит в утомительных и плавно мутирующих от плохих до отвратительных отношениях с красавцем восточных кровей, наделенным родителями волшебным именем Рафик. Хотя, надо заметить, что эпитет «красавец» прилип к утомленному татарину еще с поры их знакомства; в последние же годы сильно погрузневший и как-то резко уставший от жизни Рафик никакой особой красотой уже не отличается, и если бы не извечный его загар, полученный в солярии, то цвет его лица давно бы выдавал постоянные проблемы с кишечником и шумящее сердце. Но мужская красота – тема в России давно запретная, и, разумеется, не внезапное ожирение возлюбленного мешало Жанниному счастью, а тема банальная и отвратительная: наш Рафик через год признался, что женат и (еще через год) добавил, что религия у мусульман серьезная, не чета христианской проститутке, и разводов, к невероятному, просто космическому его сожалению, никак не одобряет. Все. Баста. Вырисовывался очередной гиблый случай, и рациональная моя подруга, возможно бы, крутанула рыжим хвостом и отчалила восвояси, не будь она к тому моменту уже так сильно влюблена.
Еще до этого заявления, где-то на самой заре отношений, Жанна, как в омут, провалилась в своего избранника, с каждой ошибкой утопая все глубже и безвозвратнее: обрывала его телефон, высылала на рабочий адрес корзины с цветами и даже умудрилась, (слава богу, на короткий период) выкрасить свою шикарную, отливающую медью и медом шевелюру в так нравящийся ему цвет «вороное крыло». Стас зверел, наблюдая, как я часами маюсь у телефона, выслушивая подробное описание блестящих глаз и прочих достоинств Жанниного кавалера. В достоинства записано было все: от действительно статной тогда фигуры до милейшего шрамика, оставшегося после удаления аппендицита. Узнав же о его несвободе, Жанна лишь тряхнула гривой и просто начала еще дольше задерживаться у зеркала: ее глаза зажглись огнем настоящего безумия, а гордо выставленный средний палец заряжал ее необходимой силой и надеждой. На карту теперь было поставлено абсолютно все: брошенная карьера дизайнера интерьеров (чтобы Рафик мог приезжать к ней в любое удобное время), отказ от любимой кошки (на которую у Рафика оказалась аллергия), постоянные массажные салоны, фитнесс-центры и даже – (ход конем!) – имплантированные силиконовые вкладки, придавшие ее и без того идеальной груди какую-то уже излишне потрясающую форму.
Возможно, бедолага Рафик бы развелся… не будь у него тогда двоих детей. Какое-то время он даже бормотал ереси, что вроде бы подумывает бросить семью, но его сообразительная супруга умудрилась молниеносно родить ему еще двух, и под тяжестью удвоившейся ответственности Рафик просел, резко набрал вес и ограничился тем, что объявил Жанну «любовью и болью всей своей несчастной жизни». С этого момента всем, включая даже Жанну, стало окончательно понятно, что больше, чем на роль любовницы, она рассчитывать уже не сможет. Появилась обычная в таких случаях обида, разочарование, обвинения в бездарно отданных годах, но в суете и рыданиях подходящий для расставания момент был пропущен, и уже мучительные для обоих отношения, как это часто и бывает, если вовремя не остановиться, перетекли в вялотекущее и изнуряющее постоянство. Рафик обреченно снял Жанне квартиру и, с частотой не более, но и не менее двух раз в неделю «заезжал на обед».
Года через два Жанна вернула себе натуральный цвет волос и устроилась на первую попавшуюся работу, где стала подыскивать другой вариант. Однако еще года через два, наполненных постоянными неудачами, умерила свои аппетиты и теперь билась лишь за ничего не меняющие нюансы, а именно – пыталась убедить Рафика в необходимости не снять, а на этот раз купить ей квартиру.
– Ну хочешь, позвони ему с моего мобильника, – предлагаю я без энтузиазма.
Жанна вскидывает голову и утыкает куда-то чуть левее меня осоловевший взгляд, означающий, что она, строго по заведенному сценарию, перешла ко второй фазе вечера.
– Зачем? – спрашивает она почти сонно, словно бы не понимая, о чем мы вообще говорим. – Я и так знаю, что там случилось. Позвонила благоверная, сорвала его по какому-то заданию. Видать, они вместе там, вот он и трубку не берет… Хотя, прикинь, дерьмо какое он все-таки? Ее нервы он бережет. А ведь мог бы зайти на минутку в мужской туалет, позвонить, сказать по-человечески, что не приедет… Ладно, что уж теперь?..
Ее взгляд, наконец, фокусируется на моем лице, потом (вслед за моим) переползает на остывшие жульены.
– Ну, что ты смотришь как собака? – вздыхает Жанна. – Бери.
Я наливаю ей виски. Поймав мой кивок, она выдавливает кислую, но все-таки улыбку.
Вообще-то Жанна, может быть, и стерва, но отнюдь не идиотка. По крайней мере, во всем, что не касается Рафика.
– Но он любит меня, понимаешь? – говорит она.
– Дорогая, люди вкладывают в это слово настолько разные смыслы…
– Прекрати. Он меня лю-бит! – отчеканивает Жанна по слогам, словно прибивая каждый гвоздями так, чтобы уже никуда не убежал. Спорить с такими интонациями бессмысленно и жестоко, и я поднимаю руки, сдаваясь.
– Может, этого… нюхнем чуток? – предлагает Жанна. – У меня есть.
Нет, я молча качаю головой. Не поможет. Вместо этого я предлагаю пройтись. Жанна морщится. Свежий воздух, уговариваю я.
– Где это свежий? В Москве что ли? – бурчит Жанна, но все-таки поднимается и плетется к прихожей. Натягивает лакированные сапоги.
Снег отказывается ложиться на отравленный химикатами тротуар и тает, образуя хлюпающую грязь. Где-то тоскливо ухает птица. Москва действительно, как объяснили сегодня по радио, напоминает накрытую крышкой кастрюлю, и от этого ощущение, что мы все, вместе с бурыми медведями в зоопарке и птицами, заперты здесь в хитроумной ловушке, только возрастает. Внезапно темноту, как вспышкой молнии, разрывает пронзительный вороний крик. Тревожно, надрывно прокашлявшись карканьем, птица так же неожиданно замолкает, и только ее черный силуэт еще какое-то время нервно поеживается на скелете из голых обледеневших веток.
– Галерею закрыла? – интересуется Жанна, рассеянно пиная ногой пустую жестянку.
Я киваю.
– Прям окончательно?
– Окончательнее некуда. Продажи встали. Стас все несколько месяцев высчитывал и сказал, что мне не пережить этот кризис. Хлеб-то народ и в войну покупает, но у меня же не булочная, а дизайн…
Жанна вздыхает:
– И что будешь делать?
– Уйду в монастырь.
– Ну я серьезно?
– И я серьезно.
Жанна смотрит с сомнением.
– Для того, чтобы выработать какое-то направление движения или план, надо как минимум понимать, где ты находишься, иметь какую-то систему определяющих тебя координат, ориентиров, – зачем-то разъясняю я. – А я ничего вокруг не вижу. Пустота одна, серость, бессмыслица.
– Опять ты за свое… – вздыхает Жанна. – Какие тебе ориентиры нужны? Вот те банк, вот те продовольственный, из первого деньги берешь, во второй несешь. Хотя, конечно, чтобы в первом деньги не кончались, надо еще третью точку вмонтировать, типа работа, офис. Тогда в первой точке берешь, в банк несешь, оттуда в продовольственный, потом домой. Дом – это четвертая точка. Там ешь, на сытый желудок идешь спать, а с утра замыкаешь круг, идя в офис. Чем тебе не ориентиры? Целых четыре тебе насчитала, а ты говоришь, ни одного. Кстати, есть вариация: офис можно заменить на толкового мужика. Тогда у мужика берешь, в банк несешь… Хочешь, я могу тебе еще расставить с десяток точечек поменьше, типа на бассейн, солярий, ресторан, шиномонтаж, кабинет психоаналитика?..
– Вот-вот. И тебя это устраивает?
– Что «это»?
– Ну тупость всей этой схемы? Ты вот чем занимаешься? Заменяешь точку Офис на точку Рафик? И пытаешься расширить точку Дом?
– А чем я еще должна заниматься? – обижается Жанна. – У тебя вот есть Стас.
Теперь не понимаю я:
– И что Стас?
– Ну Стас же вас двоих вытянет?
– Далеко не факт. У него тоже все плохо. Орет вечерами или пялится в телевизор. На днях прихожу, а он сидит напротив, глаза открыты, а по экрану рябь. Антенна выскочила, а он смотрит как ни в чем не бывало. Даже заинтересованное выражение с лица не убрал, забыл. К тому же я тебе не про деньги, а про…
Я замолкаю. Рассказать Жанне про Зов? Про сосущую пустоту под ребрами? Про то, что я почти не сплю ночами, вертясь на смятых простынях, слушая беспокойные стоны Стаса, всматриваясь в постепенно светлеющее на востоке небо и пытаясь нащупать ту точку, о которой умолчала Жанна, – ту точку, с которой все пошло не так, вкривь, в тупик?
Мне тридцать лет. Я довольно красива и по обыденным меркам удачлива, но у меня явно что-то не клеится, и я никак не могу понять что. Когда я лечу на самолете, меня посещают мысли, что, пожалуй, я не против, чтобы он упал. Я закрываю глаза, и цветные картинки стремительно проносятся передо мной: обезумевшие люди мечутся по проходу, кто-то пытается куда-то звонить, дети и женщины визжат, хватаясь друг за друга, ручная кладь падает вниз на головы пассажиров, мелькают искривленные ужасом лица, чья-то кровь, оторванный пиджачный рукав, кто-то гомерически хохочет, кто-то затыкает уши и пытается молиться… Я же – выпрямляю спину и представляю собой оплот невозмутимости. Я сижу у иллюминатора и смотрю на приближающуюся плоскую лепешку Земли. Я даже рада. Смерть избавляет меня от необходимости жить дальше, заполнять пустоту бессмысленными занятиями. Смерть избавляет меня от попыток каким-то неведомым мне образом отыскать здесь свое потерявшееся место, от пробирания по узким тамбурам и коридорам этого безумного и давно оставленного машинистом состава, от стыда при робких заглядываниях в щелочки чужих непристойных купе (толстая тетка, орущий ребенок, угрюмый подвыпивший тип с остановившимся взглядом, даже не оборачивающий головы и продолжающий пережевывать свой бутерброд – ах, извините, я не хотела, я ошиблась вагоном!). В какой уже раз я выхожу на незнакомом полустанке и, проводя ночь на голом стуле в ожидании следующего скорого, все кручу в руках билет, тщетно силясь разобрать по какому-то невероятному недоразумению затершийся номер состава, вагона и полки.
Сильно подозреваю, что именно поэтому я до сих пор живу со Стасом. Уж кто-кто, а он точно знает номер своего купе, более того, вне всяких сомнений он уже подружился с проводницей, и сейчас («ты пока присаживайся, детка»), сейчас уже принесут чай с лимоном, ватрушки и коньяк…
Самое обидное, что я совершенно не знаю, почему я такая. Когда, в какой момент я потеряла нить? Хотя… конечно же, я вру себе. Я знаю. По крайней мере, я знаю, откуда во мне пустота. Впервые она появилась еще там, в больнице, когда отец за минуту до смерти крепко сжал мои пальцы. «Живи так…», начал он, но захлебнулся. Он почти не мог говорить. Его легкие были пробиты осколками ребер, у него не было шансов, и я поняла это, поймав взгляды врачей. – «Как?», прошептала я. – «Так…», снова попытался сказать что-то отец, но потерял сознание. «Как? Живи как?», спрашивала я потом у Стаса, давая увести себя из коридора, садясь в машину, невидящими глазами уставившись на мелькавший за окнами город. «Как?!» Но никакого ответа не было. Ни от Стаса, ни от врачей, ни от друзей и знакомых. «Люди не понимают, что говорят перед смертью», утешила меня Жанна, но я не поверила. Конечно же, именно перед смертью люди как раз понимают, что говорят. Вот тогда-то, в больнице, или чуть позже и появилась эта пустота. Гулкая. Растущая. Словно странный вирус, размножающаяся во мне и сгрызающая меня изнутри.
– … и еще тебе надо найти новую работу, – продолжает тем временем Жанна.
Я вздрагиваю, очнувшись от своих мыслей.
– Зачем?
– Деньги будут.
– Чтобы что?
– Что значит «чтобы что»? А что тебе надо?
– Не знаю, – признаюсь я.
В темноте облысевшего зимнего сквера носятся две собаки: белая и черная. Их хозяйки – обе толстые, закутанные в одинаковые платки и вообще похожие как две капли воды – нахохлившись на лавочке, потягивают пиво.
– Помнишь, раньше мы «Наутилус» слушали, на концерты «Аквариума» прорывались, на фильмы Соловьева… – говорю я. – В зале темнотень, а мы рядами качаемся из стороны в сторону, каждый зажигалкой светит, как свечой.
Жанна недоуменно поднимает брови:
– И? Куда ты клонишь?
– Да не знаю я сама. Но какое-то тогда чувство чего-то высокого было. Может не особо и было, но казалось, по крайней мере, что было что-то еще в жизни. Счастье какое-то, или хотя бы намек на то, что оно где-то рядом.
– Не знаю. В Казани ничего такого и раньше не было. Но в целом мне понятно, – констатирует Жанна. – У тебя очередное обострение бунтарства. Не знаю, чем тебе помочь. То ты всем наперекор свои светильники ваяешь, вместо того, чтобы на нормальную работу устроиться. То потом бреешься налысо и уходишь на год в кришнаиты…
– Ну ты вспомнила. Мне тогда семнадцать было…
– То бросаешь того…
– Кого?
– Ну, не помню имя. Того, который обещал тебе, что ты за ним как у Христа за пазухой будешь.
– Не поняла?
– Ну того, у которого по дому тигр ходил? Богатого придурка?
– А… – Я, кажется, наконец вспоминаю. – Ну так я поэтому и в кришнаиты ушла, чтоб он от меня лысой отстал.
– Да не спорь ты! Ты вечно все норовишь не как все. Рожать отказываешься.
Мне начинает надоедать:
– Кого рожать, Жанна, кого?!
– Детей. Кого ж еще? Будущее поколение.
– И что я ему расскажу, поколению этому? Что я сама ни черта в жизни не понимаю? Что есть точечки Банк, Продовольственный и Психоаналитик? Что есть деньги и квартиры, что работать в международной корпорации социально выгоднее, чем ваять свои лампы, что кришнаиты оказались придурками, и что у моей подруги Жанны есть офигительный кокаиновый дилер?..
– Да ладно, не заводись. Про детей это я так, не знаю зачем сморозила. Все эти пеленки, вечные спотыкания об игрушки и десять лет жизни под аккомпанемент надрывающихся из телека мультфильмов… Тоска. Согласна. Дети – это вампиры, они родителей сосут. Чем крепче и румянее малыш, тем обычно тоскливее глаза у родителей. Особенно – у мамаш. Вот на Лялю посмотри, совсем зашоренная стала, все только про детей и говорит. Или взять Рафика! Бедный! Четверо – это даже не Лялины трое! Как он жив там вообще до сих пор? Ты заметила, как он дико в весе прибавил? Как будто все силы закончились. А на самом деле он…
– Только давай не про Рафика опять? – прошу я. – Бросала б ты его, сосредоточилась на чем-нибудь еще.
Жанна бросает на меня взгляд, наполненный упреком.
– На чем? На счастье твоем?
– Хотя бы.
– Спасибо, дорогая, сама его ищи. Только имей в виду, такие поиски до добра не доводят. У нас вот на работе случай был недавно. Тебе будет интересно. Наш исполнительный директор врезался в столб. На приличной скорости. Пьяный ехал, все как полагается. Но не в этом дело. Короче, врезался, попал в больницу, провалялся там неделю в коме, а потом из нее вышел, и не узнать его. Ходит, вот как ты, весь глючный, счастья в жизни ищет. На летучках начал цитаты из Бхагават-Гиты зачитывать, медитации в обеденный перерыв устраивать, а через месяц и вовсе потерял ко всем нам интерес. Стал грустный, опустился, начал в одном и том же ходить, щетина на щеках трехдневная. Жалко мужика, нормальный был раньше. Короче, пожалела его наша рекламщица Светка и дала ему телефон гадалки какой-то. Хорошей, говорит, не шарлатанки. Он пошел, бедняга. А та ему чего-то наговорила, что он и вовсе уволился. Продал машину, сдал квартиру и свалил куда-то к черту на куличики. «Отпустите меня в Гималаи, а не то я завою, не то я залаю», короче. Рерих ненормальный. И теперь шлет оттуда открытки! Он, в каких-то тряпках, а сзади горные козлы бородатые. Или он, а вокруг тибетские попрошайки. На холодильник их вешаем в кухне, картинками вперед, чтоб не читать, что на обороте.
– А что там на обороте?
– Да что там может быть? Я уж не помню дословно, но мура какая-то про счастье. Напрочь у человека крышу снесло.
Надышавшиеся морозом, продрогшие мы возвращаемся к моей машине, и в Жаннином взгляде зажигается надежда:
– Может, поднимешься? Еще виски осталось…
– Не… поеду. Что-то не пьется. Да и потом, я за рулем. Права отнимут.
Забравшись в машину, заваленную свежевыпавшим снегом, я дико жалею, что я не бурый медведь. Как бы мне здесь сладко заснулось, прямо на краю парка, сразу до весны. А там – по крайней мере, солнце, какая-то физиологическая, обусловленная не жизнью, а климатом, чисто весенняя надежда на… На что? Хороший вопрос.
Я опускаю заледеневшее стекло и кричу:
– Погоди! Говоришь, у тебя там был кокс?
У заманчиво посверкивающих кристалликов этого порошка есть два существенных преимущества перед алкоголем: они не мешают водить машину, и никакого теста на них у гибэдэдэшников пока не придумано. Так, странные, конечно, глаза у девушки, но, чего удивляться, и жизнь-то у нас тоже, мягко скажем, странная.
5
На следующее утро наступает первый день моей безработицы. Ни свет, ни заря меня будит Стас. Как обычно невыспавшийся и раздраженный, он расталкивает меня со словами: «Что за хрень, детка? Где все мои рубашки?»
Я пытаюсь отбрыкаться, что ничего не знаю, но Стас так настырен, что я признаюсь, что сдавала их в химчистку и, разумеется, забыла донести до дома: они так и валяются у меня в машине. Мне приходится подняться, прямо на голые ноги нацепить сапоги и спуститься во двор. Сон окончательно перебит. Вернувшись в квартиру, я бросаю стопку глаженых рубашек на кровать и тащусь сварить себе кофе. Стас никогда не делает сразу две чашки, всегда только одну – на себя. Он уверен, что у него ни на что нет времени. Мне кажется, что образ вечно спешащего бизнесмена подобран им в каком-то голливудовском шедевре, возможно, еще в годы жизни в Америке, хотя сам Стас считает себя очень европеизированным и глубоко презирает «тупоголовых америкашек». Стас вообще с удовольствием презирает людей, считая всех кругом идиотами. Раньше мне это в нем нравилось…
Стас тщательно выбирает себе рубашку и через пять минут останавливается на бледно-розовой. Теперь из тесного шкафа стремительно выбрасываются мятые костюмы: черные, серые, в тонкую полоску.
– Дьявол! – раздражается Стас. – Когда, наконец, у нас будет готов нормальный walk-in closet? Ты звонила на фабрику? Когда эти идиоты уже пришлют нам все эти полки и вешалки?
Комната-шкаф – тоже почерпнута им из какого-то фильма. В нашей трешке на нее даже нет места, и для осуществления Стасовой мечты нам пришлось поставить перегородку посреди спальни. Теперь в комнате едва помещается огромная king-size кровать, возвышающаяся посреди раскиданных вещей, стопок книг на полу и попадающихся то тут, то там рулонов с еще ненаклеенными обоями. Зачем нам такая кровать – я не знаю. Мы не занимаемся любовью как минимум уже три месяца.
Справившись с костюмом, Стас долго рассматривает свое отражение в зеркале, пару раз растягивает губы, репетируя лучезарную улыбку, приглаживает волосы слегка манерным жестом (одной ладонью, не касаясь волос широко растопыренными пальцами), и брезгливо дышит в ладони, проверяя свежесть своего дыхания. Через год Стасу грянет сорок, и, как большинство моложавых мужчин, он панически не готов к этому. Он высок и худощав, хотя если бы не хорошо подогнанные по фигуре дорогие костюмы, его следовало бы назвать долговязым. От его детства, прошедшего с вечно забинтованным горлом и унизительной температурой в 37,2 градуса, у него остались болезненно тонкие ноздри, и сейчас почти прозрачные и оттенком гармонирующие с его розовыми рубашками, влажные ладони и испарина, при малейшем же поводе выступающая на высоком, с уже намечающимися залысинами лбу. Если задаться несложной целью вывести его из себя, то достаточно сделать то, что его нечувствительные родители совершали постоянно, а именно назвать его Стасиком. Или же, еще проще, можно вскользь, как бы небрежно, проходя мимо телевизора, похвалить Бондарчука-младшего. Светло-серые глаза Стаса моментально потемнеют, начнут отливать свинцовой тяжестью, губы подберутся внутрь, и последует хлесткая, наполненная обидой тирада об Утонченности, которой некоторые плебеи (вот еще одно его любимое слово) с детства лишены. К слову сказать, детство хилого, но при этом крайне амбициозного Стаса покрыто поволокой низко стелющегося тумана, из которого лишь пару раз за те семь лет, что мы провели вместе, да и то благодаря сильному подпитию, проступили отдельные фрагменты. Если не считать совершенно одинаковых шестнадцатиэтажек и пустырей, из которых состоял его унылый окраинный район, то в большинстве своем они представляли из себя части человеческого тела: алые, натасканные дворовыми подростками уши, до стона заломленный за спину локоть, затекший синяком и ненавистью глаз, и (этот фрагмент оглушил меня своей пронзительностью) мокрые, трясущиеся, с липкой струйкой кровавой слюны губы, с тихим подвыванием клянущиеся зеркалу вырасти и Их Всех убить, убить, убить!
Цепкий (не сильный, а именно цепкий, юркий, изворотливый, и в некотором роде даже какой-то нечистоплотный) ум Стаса уже к середине школы сообразил, что шансов добиться чего-нибудь физической силой у него нет. Его неудачные, по его горькому убеждению, несправедливо доставшиеся ему родители не могли помочь сыну ни деньгами на репетиторов, ни надлежащими полезными связями, и, под издевательский хохот одноклассников, Стас отчаянно штудировал учебники, находил в себе силы заискивать перед преподавателями (животная детская кара за этот грех следовала практически незамедлительно), но, в конце концов, все-таки вырвал из толстой разведенной и ненавидящей весь белый свет директрисы золотую медаль, свой пропуск в мир престижных вузов. Дальше пошло уже проще. С отличием окончив Плешку, он продолжал учиться, пару лет простажировался в Чикаго и, привезя на родину отличный английский язык, подержанный двухдверный «понтиак» и выстраданную в гимнастическом зале фигуру, открыл свою финансовую компанию.
Вскоре после его возвращения на родину мы и познакомились. Не добившись уважения сверстников в детстве, Стас с лихвой компенсировал свою страсть к руководству, сразу же взяв надо мной шефство, и из нежной и так нравящейся мне «девочка моя» я довольно быстро превратилась в его «детку». Мольбы и сожаления, нет-нет да мелькавшие на лицах моих родителей, больше не трогали меня, как не тронул и семейный вердикт, вынесенный родителями незадолго до их гибели и гласивший, что именно этой моей слишком быстрой капитуляции я и обязана тем, что Стас так никогда и не сделал мне официального предложения. Мы жили «просто так», не расписавшись, и с годами я убедила, – если не родителей, то, по крайней мере, себя – в том, что «все так живут».
– Детка, помоги мне с галстуком, – скорее командует, нежели просит Стас.
Я шмыгаю носом и завязываю идеальную петлю.
– Что за насморк? – Стас берет мой подбородок в руки и внимательно вглядывается в лицо. – Это кокс? Ты поэтому пришла под утро?
Я вырываюсь и иду на кухню.
– Не начинай, а?
Стас идет за мной.
– Что не начинай?
– Ничего не начинай.
– Мне что, позвонить этой идиотке и разъяснить ей, что б она катилась в hell в гордом одиночестве? – Стас вечно вставляет английские слова, и раньше мне это тоже в нем нравилось. – По-моему, тебе и без нее есть чем заняться.
– Чем же, например?
– Например, ремонтом!
– И как ты это себе представляешь?
– Найди нам турков.
– А у нас есть деньги на турков?
– Тогда найди каких-нибудь таджиков. Есть же, в конце концов, в этом городе свободные таджики?
– Нету таджиков. Поезда переполнены, новости не слушаешь? Домой они все валят, кризис в стране, не в курсе?
Стас морщится. Свежевыбритый, пахнущий одеколоном и подтянутый, в застегнутом доверху пиджаке он, стоя, пьет свой кофе и смотрит в окно. Там его ждет Город. Каждое утро Стас смотрит на проснувшегося многомиллионного монстра, как будто оценивая силы противника и одновременно бросая вызов: «Ну? Кто кого сегодня?» Под мышкой у него зажат свеженький выпуск «The Economist».
– Хочешь, подогрею тебе курицу? – предлагаю я.
– Из коробки? Сама ешь, нет времени, я встречаюсь с Артемом.
На ходу опрокинув в себя остатки кофе, Стас привлекает меня к себе, недовольно чмокает в лоб и, споткнувшись об обойные рулоны и хорошенько проматерившись, хлопает дверью.
Я только вздыхаю. Я знаю, Артем ждать не любит. В последнее время он еще более нервный чем Стас. Мне доподлинно это известно от Ляли – моей институтовской подруги, которой выпало счастье стать его женой и родить ему трех препротивных крошек, из-за которых все наше общение почти прекратилось, и теперь мы виделись только на корпоративных вечеринках. Стас и Артем работали в одном офисе, то ли конкурируя, то ли помогая друг другу в каких-то непонятных ни мне, ни Ляле финансовых операциях, и периодически пропадая по пятницам по ночным клубам. Вернее, то, что они находились в ночных клубах, знала только я. Наверное, это можно считать прерогативой нашей со Стасом нерасписанности, а, следовательно, некоей свободы, которую он чувствовал по отношению ко мне. По крайней мере, так считала Жанна, находящаяся в вечных поисках подтверждений того, что ее нелегальный статус при Рафике имеет свои преимущества. Замужней и многодетной Ляле сообщалось о приездах иностранных коллег, обязательных приемах и затянувшихся совещаниях, от которых бедный Артем очень страдал, ходил по утрам с землистым оттенком на припухшем лице и периодически выпячивал нижнюю губу и отказывался снимать трубку, когда ему звонили особенно надоевшие ему клиенты. Догадывалась ли Ляля о том, что все эти клиенты оказывались безупречно стройными блондинками, еще не реализовавшими ее мечту и не обладающими ни двухметровым бизнесменом-мужем, ни двумя нянями, уборщицей и личной массажисткой, или искренне верила в пятничные заседания директоров, – никого не интересовало. Ляля вообще никого не интересовала. Располнев и окружив себя колясками, она реализовалась, и была по этому поводу списана всеми со счетов. Реализовавшиеся люди находятся вне конкуренции. Выпадают из круга. Поглощаются миром орущих по телеку мультфильмов или отбывают в не менее виртуальные горы и шлют оттуда открытки с козлами и тибетскими попрошайками, которые вешаются на холодильник текстом назад.


