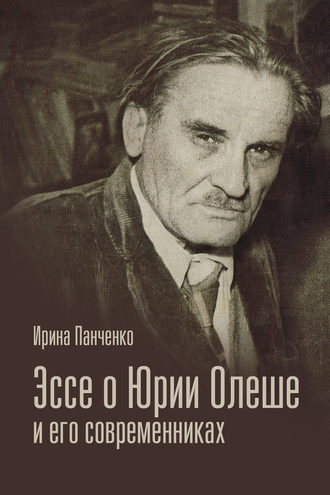
Полная версия
Эссе о Юрии Олеше и его современниках. Статьи. Эссе. Письма.
Правда, компромиссы не сломили ни Булгакова, ни Ахматову. У них хватило сил на «Мастера и Маргариту», на «Реквием». Олеша оказался слабее. Он сумел оставить только устные остроты, записанные другими, да отрывочные, порой удивительно прекрасные, дневниковые записи.
В годы террора, когда литераторам дозволяли быть лишь послушными соавторами государственного мифа, трансляторами партийной доктрины, когда царил страх, когда арестовывали, ссылали, убивали близких и дальних (Бабеля, Кольцова, Пильняка, Дикого, Мейерхольда, Райх, Лифшица…), Олеша не мог, не был в состоянии писать прозу, но его раздавленное и сжатое «я», не утерявшее окончательно своей независимости, нашло свой способ духовного противостояния режиму.
В кафе «Националь», неподалёку от Красной площади и Кремля, Олеша возрождает дух кабаре с его миражностью полухмеля, экспромтом, театральностью, вольным словом. В «Национале» за столиком Олеши, где собираются актеры, литераторы, художники, царили навряд ли мыслимые тогда ещё где-либо формы неофициального, карнавального общения. Играя, импровизируя, соря остротами, изощряясь в застольном красноречии, Олеша удовлетворял свою неистребимую потребность в творчестве и одновременно помогал преодолевать себе и другим «психологию заключённого», которую в те годы прививали всем гражданам страны. В эпоху, когда интеллигенция жила «под собою не чуя страны», когда ее речи были «за десять шагов не слышны», афоризмы и экспромты Олеши расходились по всей столице, их запоминали, пересказывали друг другу. «Тоталитаризм и богемная вольница несовместимы»[78], – справедливо пишет киевский литературовед М. Петровский. – Сталинским режимом богема была уничтожена – «либо физически, либо зачислением на государственную службу»[79]. Но Олеша сделает себя исключением из этого правила. Шутки и презрительные суждения Олеши были далеко небезобидны, в них был вполне прочитываемый подтекст. Например, он предлагал: «В шахматы надо ввести новую фигуру. Название ей я уже придумал – дракон. Этот предлагаемый мною дракон, ходит куда хочет и бьет любую фигуру, какую хочет»[80]. Олеша замечает, что «теперь все говорят языком Зощенко. Министр культуры говорит языком Зощенко»[81]. Слушатели Олеши запомнили, что «писателю надо платить не за то, что он пишет, а за то, что он живёт»[82] (83); «Когда Гофман пишет "вошел черт" – это реализм, когда Караваева пишет: "Липочка вступила в колхоз" – это фантастика»[83].
Тайной пружиной этого типа острот было противостояние советской власти. Олеша до конца остался верен этому малому, но по-своему несгибаемому сопротивлению.
Автор рискованных речей ходил по лезвию ножа. Сегодня стало известно содержание литературных архивов КГБ, прочитаны следственные дела писателей, допрашиваемых и пытаемых в застенках. Оказалось, что оговоров Олеши требовали на допросах от Мейерхольда, Кольцова, Бабеля, Стенича… Вот только одна небольшая цитата из досье Бабеля: «Его (Олеши – И. П.) беспрерывная декламация в кабаках была как бы живой агитацией против литературного курса, при котором писатели, вроде Олеши, должны прозябать… На отдельных представителей советской литературы он публично набрасывался с криками: «…Я требую одного – чтобы мне было дано право на отчаяние!»…Он носил себя, как живую декларацию обид, наносимых «искусству» советской властью; талантливый человек – он декларировал об этих обидах горячо, увлекая за собой молодых литераторов и актеров"[84].
Поэт и переводчик В. Стенич на допросах и вовсе выдвинул страшное обвинение – он заявил, что Олеша «всегда в беседах подчёркивал своё стремление лично совершить террористический акт. Например, зимой 1936 года, когда мы проходили мимо здания ЦК ВКП(б), Олеша сделал злобный клеветнический выпад против Сталина, заявив: "А всё-таки я убью Сталина"»[85].
Олеша ходил под Богом. Его чудом не арестовали (может, спасла репутация городского сумасшедшего, пьянчуги?), физически не уничтожили, но он ушёл в «литературное молчание», двадцать лет не переиздавали его прежних произведений. Он писал казённым языком тех лет газетные заметки по заказу редакций (в том числе и о футбольных матчах, и о сборе металлолома, и о первых выборах в Верховный Совет СССР на избирательном участке в Москве, где баллотировался Сталин, и об изобилии товаров в магазинах Москвы, и…), он стал правщиком и перелицовщиком чужих вещей, пил и бросал пить, лечился и снова начинал пить. Он отдавал себе отчёт в той беде, которая произошла с ним: «Однажды я заметил, что теряю желание писать, в смысле сочинять что-либо о вымышленных людях и их вымышленной жизни. Это нежелание было непреодолимым, я понял: это катастрофа в моей писательской судьбе, конец. Однако умение писать меня не покидало. И даже когда я…» (Фраза в дневнике оборвана – И. П.)[86].
После смерти Сталина Олеша обращается вновь, как когда-то в 1930-х и 1940-х, к жанру дневниковых записей, некоторые из которых увидят свет при его жизни.
Возрождается интерес к его творчеству. Осенью 1955 года Гослитиздат решит поставить в план сборник избранных сочинений Олеши и (вот ирония судьбы!) составление однотомника и вступительную статью к нему поручат написать… В. Перцову, к тому времени доктору филологических наук. Перцов так вспоминал своё сотрудничество с писателем: «Олеша слушал с особенным вниманием ту часть статьи, которая относилась к «Зависти»…. и сказал, что мне удалось, как он выразился, "выгнуть кривизну"»[87]. Олешинский отзыв нельзя понять иначе, как ироничный, но Перцов понял его по-своему: «Едва ли нужно говорить, как был доволен автор статьи (т. е. сам Перцов – И. П.) этим отзывом…»[88].
Стотысячный тираж «Избранных сочинений» (1956) Олеши (с тем самым предисловием Перцова) разошелся мгновенно. Переиздание мелькнуло проблеском новой славы писателя.
В это же время Олеша пытается работать над письменной, литературной фиксацией своих изустных метафор и острот, которые вспыхивали в полутрезвых диалогах-монологах «Националя» и часто гасли в памяти самого писателя. Но даже на дневниковую фиксацию таких образов его уже решительно не хватает. Он добровольно растратил свой талант, он устал, рано постарел. Вдова писателя Ольга Густавовна Суок рассказала мне об Олеше последних лет жизни: он хотел бы жить на палубе корабля или хотя бы под лестницей гостиницы, чтобы «быть, как нигде». И всё же Олеша делает всё новые и новые попытки «к литературе».
После смерти Олеши составители в 1965 году издадут его отрывочные записки под выспренним названием «Ни дня без строчки», но это лживое название – ежедневных-то строчек как раз и не было! По свидетельству В. Катаева Ключик (Олеша) хотел назвать эту книгу «гораздо лучше и без претензий»: «Прощание с жизнью»[89]. В самой книге «Ни дня без строчки» мелькает часто выражение Олеши «прощание с миром». Нынешние издатели этой книги, расширив её объём за счет тех записей Олеши, которые по цензурным соображениям не могли быть опубликованы в 1965 году, выпустили труд под названием «Книга прощания»[90].
«Ни дня без строчки» Олеши – это книга заметок, в которых, по слову Е. Евтушенко, «напряженно билась жилка сохранившегося таланта»[91], это подтверждение олешевской мысли о том, что он должен писать, «хотя бы и так»[92], если уже не способен на цельную и законченную вещь. В книге мерцают искры погибшей олешевской эстетики 1920-х годов.
Олешу мучил сюжет рассказа-притчи о себе самом: «Жизнь подходит к концу. Я сделал немного. Я просто назвал несколько вещей иначе. И вот пришла смерть с косой и садится напротив. И говорит: «А назови меня как-нибудь иначе…». И я мучаюсь – и не могу назвать её иначе…"[93]. «Ни дня без строчки» и «Книга прощания» – это свидетельства отчаянного сопротивления Олеши старости, творческому бессилию, одиночеству, смерти, забвению, несчастливой судьбе…
После смерти Олеши о нём выйдет в Москве несколько книг. М. Чудакова сосредоточится исключительно на эстетическом очаровании прозы Олеши, не ссылаясь ни на кого из предшественников, не вступая в спор ни с одним из современников[94]. Коллективный сборник «Воспоминания о Юрии Олеше», на который мы ссылались выше, не без трудностей появится в 1975 году. Книга В. Перцова, в которой он будет усиленно «выпрямлять кривизну» своих и чужих оценок Олеши предшествующих лет, замалчивая все мучительные противоречия писателя, драматизм его судьбы, выйдет в 1976 году[95]. Завершенная в 1968 году тысячестраничная рукопись книги А. Белинкова «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша», вывезенная автором в том же году во время бегства на Запад, увидит свет в Мадриде в 1976 году, а в Москве – лишь в 1997 году.[96]Сильный в разоблачении социального зла Белинков пафос своей книги обрушит на тоталитаризм и ту советскую интеллигенцию, которая тоталитаризму не сопротивлялась, капитулировала перед властью. Олеше в этой книге достанется незавидная «роль мальчика для битья» (так объяснял свою позицию мне, тогда аспирантке, в личной беседе с ним в Москве в 1967 году А. Белинков). Между тем книга-памфлет Белинкова столь талантлива, жанр художественного литературоведения («литературоведческий роман»), в котором она написана, столь нов, нетрадиционен, что неискушённые в олешеведении принимают её за «блестящее исследование творческой биографии Олеши»[97]. Ближе к истине окажется А. Смирнов, который, рецензируя книгу «Сдача и гибель…», сделает вывод, что для Белинкова «на поверку Олеша – только полигон», а сама книга написана «о тираноборчестве автора и верноподданичестве героя; о белинковской ненависти к тирании и предательству и о соглашательстве с ними конформиста. То есть книга о себе. О состоянии своей души, противоположном состоянию души героя (Юрия Олеши)»[98].
Несомненно, Белинков был прав, когда писал о гибели таланта Олеши: после 1929 года шла его непрестанная «гибель», но безоговорочной «сдачи» не было. Творческий дар Олеши сопротивлялся насилию.
В прекрасной и проникновенной статье писателя Б. Ямпольского «Да здравствует мир без меня», посвященной последним годам жизни Олеши и названной его же словами из книги «Ни дня без строчки», содержится полемика с Белинковым: «Есть на свете люди – литературоведы, – которые пытаются выдать сейчас Олешу чуть ли не за эталон приспособленчества. Какая ужасная слепота и несправедливость! Да, он был раздавлен… Но он был высечен из цельного благородного камня, в нём не было ни капли, ни одного капилляра подлизы, карьериста, ему доступны были прекрасные видения»[99].
В неожиданном ракурсе расшифровал книгу Белинкова исследователь А. Гольдштейн. Он написал свою статью в такой же «поп-артовской» манере, в какой написана книга Белинкова. Вслед за Белинковым Гольдштейн расширяет общепринятые для русского литературоведения границы дозволенного, не щадит в своих откровенных и гротескных суждениях ни автора книги «Гибель и сдача…», ни его «подзащитного». Гольдштейн считает, что Белинков «все семьсот страниц делал вид, что проклинал Юрия Карловича Олешу, бывшего писателя, любимого некогда интеллигенцией, он смеялся над ним, издевался над ним, нет, не над ним, разумеется, а в его испитом, потускневшем лице над литературой и общественным строем»[100]. Вместе с тем, Гольдштейн предполагает, что Белинков «написал свою главную книгу даже не столько о советском общественном строе и даже не столько о советской литературе…, сколько написал он огромную цеховую книгу о советской литературной критике и литературоведении»[101]. «Он написал свою главную книгу о гадюшнике, клоповнике, змеёвнике, зверинце, бестиарии, пандемониуме советской литературной критики и советского же литературоведения, населённых изумительными мерзавцами»[102]. Гольдштейн видит сходство судьбы неудачника Олеши с судьбой неудачника Белинкова, а саму книгу «Сдача и гибель…» считает изживанием авторских комплексов, подарком психоаналитикам.
Проанализировав ранее не попавшие в печать дневниковые записи Олеши, В. Гудкова также вступает в полемику с Белинковым. Она считает, что его книга нанесла серьёзный урон Олеше, за которым после появления книги Белинкова «закрепилась репутация испуганного капитулянта, отступника от вечных ценностей, предателя идеалов. Причём отступившего будто бы вне реальной опасности, без веских причин»[103]. Между тем внимательное чтение неизвестных читателю страниц Олеши (Замечу, что А. Белинков был членом комиссии по литературному наследию Ю. К. Олеши, назначенной Союзом писателей. Он имел свободный доступ к архиву) позволяет сделать В. Гудковой совсем иной вывод: «В неизвестных дневниках Олеши царят не метафора, краска, образ, как было бы привычным предположить, а ощущение задавленности, социального бессилия, внятного, пусть и наедине с самим собой, протеста»[104].
Олеша – это вдохновение, фантазия, эстетизм, волшебное зрение, бескорыстие, остроумие, дерзость. Социальная слепота, раздвоенность, конформизм, творческое бессилие, мучительная рефлексия, униженность, отчаяние – это тоже Олеша. Он – носитель дара, мятущийся и грешный, – верил и сомневался, заблуждался и прозревал, мечтал укрыться от жестокой эпохи и по-своему ей сопротивлялся. Нам важно понять его без прокрустова ложа заданных концепций во всей сложной противоречивости: таким, каким он был, – сильным и слабым, безоглядным и ранимым, чрезвычайно зависимым от исторического времени, в котором жил.
Сегодня всё лучшее, созданное писателем, продолжает жить. Олеша говорит с нами из Вечности.
Статья И. Панченко опубликована в литературном альманахе «Побережье» (1999. № 8. С. 174–192).
I. Олеша в Одессе
«Чтобы родиться в Одессе, надо быть литератором»
О юности Юрия Олеши
Москва. 1965 год. Лаврушинский переулок, 17. Писательский дом. Я в маленькой двухкомнатной со вкусом обставленной квартире Юрия Карловича. Его вдова (седые волосы до плеч, белая блуза, брюки, только что вошедшие в Советском Союзе в женскую моду, элегантность) разрешила мне, киевской аспирантке, поработать с черновыми рукописями писателя. Читаю, делаю выписки… Однако сосредоточиться нелегко. Ольга Густавовна Суок устала от одиночества. Ей хочется поговорить, она зовёт меня на крошечную кухоньку.
Мы с ней пьём чай. Она рассказывает:
– В двадцатые годы мы уже в Москве. С большим трудом собрали денег и наконец-то, как говорил Юра, сумели «построить ему хороший костюм». Сидим мы с ним, вот как с вами, и завтракаем. Он о чём-то увлечённо рассказывает, а я всё глаз от костюма отвести не могу. Любуюсь.
Тут Юра смотрит на меня и говорит: «Оля, ты меня не слушаешь!». Поддевает ложкой сметану – раз! – и опрокидывает её содержимое в наружный нагрудный кармашек своего нового пиджака… (Ольга Густавовна невольно повторяет жест покойного мужа).
Я – про себя – вскрикиваю, но продолжаю слушать. Только слушать. Да Ольга Густавовна и не ждёт от меня слов. Ей интереснее вспоминать…
Уже позже, вернувшись в гостиницу, я обдумываю услышанное. Да, за шокирующим эпизодом из семейной жизни Олеши крылась характерная для советского поколения двадцати-тридцатилетних демонстрация своего полного презрения к материальному, вещному, к быту. «Быта копыто» озаглавил Олеша одно из своих сатирических стихотворений в 1928 году, подписанных тогда уже знаменитым его московским псевдонимом «Зубило».[105] Молодые максималисты 1920-х гг., «строители новой жизни», страшились «гибели у быта под копытом». Их пугали вещи. Каждая кастрюля, необходимая в домашнем хозяйстве, казалась им результатом злостной болезни «приобретательства». Во всём мерещилась власть вещей, власть мещанского быта (хотя вовсе не той власти им надо было бы тогда бояться!).
И конечно, в том же эпизоде, о котором идёт речь, парадоксально проявилась насущная потребность Олеши в жене-слушательнице, острая привязанность к ней, к её присутствию, реакции, мнению… «Оля, неужели ты собираешься жить после меня? Я бы не смог». Об этом пронзительном признании писателя я тоже услыхала от Ольги Густавовны.
А ещё в том давнем разговоре царапнуло моё филологическое ухо олешевское «построить костюм». Я его запомнила, не ведая тогда, что это специфически одесский юмор. И вспомнила совсем недавно, когда прочла в балтиморском журнале «Вестник» статью Александра Розенбойма. Краевед и знаток истории одесской культуры А. Розенбойм описал случай, приключившийся в 1918 году с популярным одесским куплетистом Сашей Франком, у которого неизвестные злоумышленники прямо из грим-уборной «умыкнули» фрак. Сообщник похитителя вежливо и твёрдо пообещал артисту вернуть фрак, по-джентельменски оставив ему в залог пять тысяч рублей. И слово своё сдержал, чем очень огорчил Сашу Франка, которому пришлось вернуть залог: «За эти деньги я мог построить новый фрак и ещё поимел бы пару копеек», – сетовал он, рассказывая приятелям о происшедшем.[106]
Вычитанная у Розенбойма история теперь не оставляла у меня сомнения о происхождении в лексике Олеши, прожившего до переезда в Москву двадцать лет в Одессе, выражения «построить костюм».
…Олеша любил Одессу с её ароматом цветущих акаций, со столетними платанами, долгим летом, с парусами на море, с иностранными именами (Ришелье, Дерибас, Маразли, Ланжерон…), которые окружали его на улицах, на вывесках, памятниках. Любил европейский колорит города, который позволил ему «считать себя близким к Западу».
Он родился в 1899 году Елисаветграде, однако когда Георгию-Антону Карловичу Олеше исполнилось три года, его семья переехала в Одессу, где прошло становление будущего писателя. Поэтому Олеша по праву считал себя одесситом: «…Всю лирику, связанную с понятием родины, отношу к Одессе», – напишет он много лет спустя в рассказе «В мире» (1930). А ещё задолго до этого, в 1917 году, Юрий Олеша (он раз и навсегда выберет этот вариант своего литературного имени) написал большой цикл «Стихов об Одессе». Образ счастливого одесского детства Олеши, столь похожего на все другие счастливые мальчишеские детства, находим в его стихотворении «Когда вечерний чай с вареньем в тёплых булках…»:
О, детство давнее! О, краденыя дыниИ капитан Майн-Рид в те дни наивных вер, —Когда на берегу, бродя по красной глине,Я, замирая, ждал разбойничьих галер…[107].А вот отрывок из стихотворения «Бульвар» из цикла «Стихи об Одессе». Лирический герой очарован своим городом:
Здесь тишина. И лестница в листвеСпускается к вечернему покою…И строго всё: и звёзды в синеве,И чёрный Дюк с простёртою рукою.[108]По рождению Юрий Олеша принадлежал к знатному польскому роду. Современные краеведы находят корни его рода в белорусском Полесье. Исследовать родословную Олеши взялся белорусский журналист Вячеслав Ильенков. В своей статье он упоминает список древних шляхетских родов (включающий род Олешей), подготовленный для журнала «Спадчына» («Наследие») Владимиром Круковским, а также гипотезу польского исследователя шляхетских родов и усадеб Романа Афтанази, который предположил, что Юрий Олеша является потомком рода Олешей из Бережного.[109]
Ильенков указывает, что основоположником фамилии считается боярин с прозвищем Олешка или Олеша, родом с Волыни. Потомки боярина не раз упоминались в старинных документах. Продолжателями этой фамилии в XV–XIX вв. были рыцари, священники, государственные чиновники, крупные землевладельцы… Ещё в 1482–1486 годах Федор Олеша-Олешкович служил секретарем короля Казимира IV Ягеллончика, а упоминание о передаче села Бережного Петру Олеше в вечное пользование датируется 1508 годом.
Когда-то, ещё до рождения сына Юрия, Карл Антонович Олеша был помещиком. Его обширное лесное поместье называлось Юнище. Вместе с братом он продал поместье за крупную сумму денег. В течение нескольких лет деньги были проиграны обоими в карты. Сведения о былой обеспеченности, о родовом гербе витали в семье Олеши: припоминали изображение оленя, чьи рога украшала корона (или корона была надета на шею оленя?). Олеша, родным языком которого был польский, всегда «гордился своим шляхетством» (В. Катаев «Алмазный мой венец»). С серьёзным выражением лица Юрий-Ежи убеждал друзей, что его, как шляхтича, могли избрать королём Речи Посполитой, и тогда он назывался бы «пан круль Ежи Перший» – король Юрий Первый. И он бы требовал, чтобы его называли «пан круль Ежи Перший велький (великий)». Конечно, это была игра, но игра, обнажающая амбиции молодого Олеши, его жажду признания и славы.
Семья Олеши была католической. Юрий навсегда запомнил костёл на Екатерининской улице, «небольшое готическое здание с архитектурной розой над порталом, с непрочными ступенями», по которым ступали его сандалии.[110]
В 1918 году юноша Олеша напишет нежное стихотворение «Польша» о любви к стране предков и символам её религии:
Нет шелков девичьих тише,Нет сердец светлей и большеУ глухих исповедаленДля цветов и первых слёз,Где склонилась в тёмной нишеКоролева скорбной Польши —Богоматерь – и печаленПо весеннему Христос.Это нужно: неустанноЧтоб молились и скорбели,И струился благовонныйСиний дым вдоль гулких стен.Так всегда ты тонкой паннойНикнешь, Польша, между лилий,И грустит, в тебя влюблённый,Твой изнеженный Шопен…[111]За год до создания этого стихотворения Юрий Олеша с золотой медалью окончил Ришельевскую гимназию (ранее Ришельевский лицей), где он учился восемь лет. Эта лучшая в Одессе гимназия, основанная по инициативе одесского градоначальника А. Э. де Ришелье (указ о создании лицея император Александр I подписал в 1817 году), славилась мягкостью нравов и тем, что в её стенах почётными гостями побывали Пушкин и Гоголь. Ришельевцы носили форму серого цвета, тогда как все остальные гимназисты города – чёрного. Год окончания Олешей гимназии совпал с годом Октябрьской революции. В 1917-ом он получил аттестат зрелости, который ещё был заверен печатями с двуглавым орлом – такие аттестаты были выданы в последний раз.
В Одессе Олеша прошёл и два курса юридического факультета Новороссийского университета. Но не университет, а гимназия отмечена у Олеши благодарной памятью: «Я из царского времени с удовольствием вспоминаю гимназию. Учиться было, конечно, трудно, но была прелесть в дисциплине, в чести ношения мундира».[112]
Катаев в «Алмазном венце» свидетельствует, что в гимназической одесской среде ришельевцы «слыли аристократами». Пиетет Ришельевской гимназии в сознании Олеши был настолько велик, что впоследствии вылился в острый парадокс: «Мир делится на окончивших Ришельевскую гимназию и не окончивших её».[113]
Слава острослова закрепилась за Олешей. Его остроумные выражения запоминали, пересказывали друг другу, передавали от знакомого к знакомому. Не был забыт и парадоксальный афоризм, который вынесен в заголовок этой статьи.
Неизвестно, когда Юрий написал свои первые стихотворные строки, но в гимназии он уже слыл стихотворцем. Радость первой публикации он испытал в 1915 году, когда в одесской газете «Южный вестник» было опубликовано его стихотворение «Кларимонда», где поэт следовал позднеромантической традиции. По мнению немецкой славистки Гудрун Дювель, это был отклик Олеши на западноевропейскую литературу, которую хорошо знали одесситы (эту тему мы с ней обсуждали в беседах на литературные темы – И. Г.).
В рассказе «В мире» есть строки, из которых мы узнаём, что гимназистом Олеша приезжал на дачу к писателю А. М. Фёдорову, которая находилась в 12-ти милях от Одессы, между 16-ой станцией Большого Фонтана и Люстдорфом. Дача Фёдорова, ученика поэта А. Майкова, в начале XX века была известна не меньше, чем Дом Максимилиана Волошина в Крыму. По слову Катаева, «утонченный, изысканно-простой», Фёдоров обладал даром находить и собирать вокруг себя талантливых людей. Фёдоровские переводы сонетов Шекспира и романы («Подвиг», «Камни», «Его глаза») читала вся интеллигентная Россия. Чехову нравилось его стихотворение: «Шарманка за окном на улице поёт, моё окно открыто, вечереет». На даче Фёдорова собирались литераторы, актёры, художники. Кроме А. Чехова, там бывали А. Куприн, С. Найдёнов, В. Брюсов, И. Бунин… Среди одесских литераторов Федоров слыл мэтром. Он покровительствовал молодым, как это было одно время с Валей Катаевым, пока тот не перешёл – по совету того же Фёдорова – под крыло Ивана Бунина.
Дни и вечера, проведённые на даче у Фёдорова (в 1919 году он бежал от большевиков в Болгарию) навсегда остались в сознании тех молодых литераторов, которые были его учениками, его почитателями, испытали влияние его оригинальной личности. В юности Олеша даже опубликовал посвящённые Фёдорову (прямо скажем, далеко не лучшие) «Майские стихи».[114]
Много лет спустя Катаев воссоздал портрет Фёдорова в «Траве забвенья» (1967), а в основу своей поздней, долго замалчиваемой и, пожалуй, самой значительной повести «Уже написан Вертер» (1980), действие которой разворачивается в Одессе, положил судьбы Лидии Карловны – первой жены Александра Фёдорова, и его сына, художника Виктора. О прототипах повести «Уже написан Вертер» рассказал в своей тщательно-фактографической книге одесский краевед Сергей Лущик.[115]
В апреле 1917 года, завершая восьмилетнее гимназическое образование, Юрий Олеша подарил тетрадь со своими стихами 1915–1917 гг. учителю словесности Ришельевской гимназии А.


