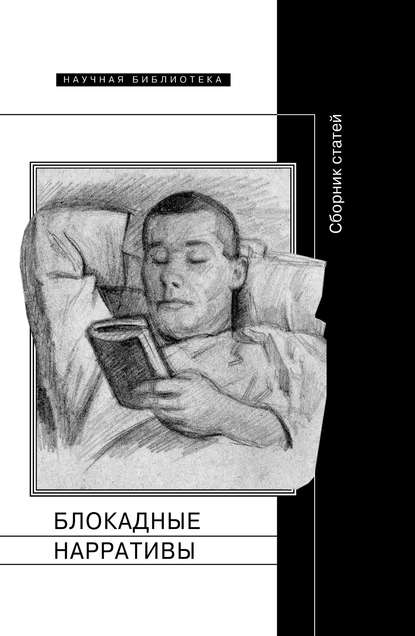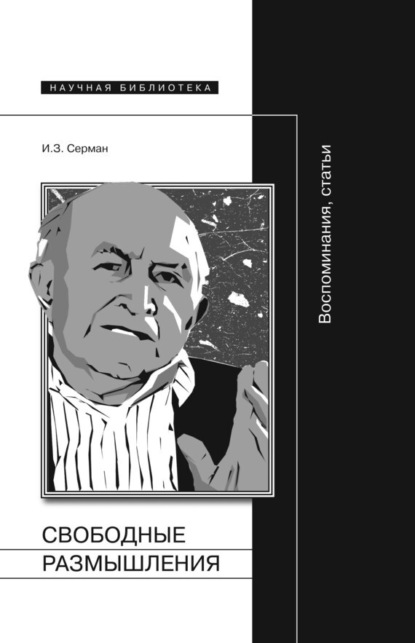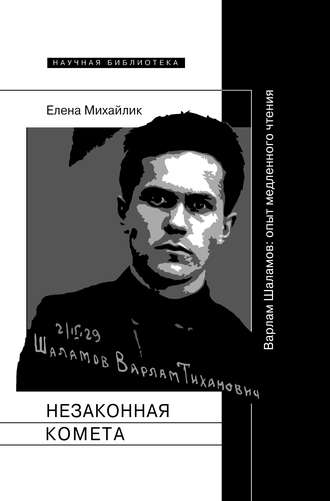
Полная версия
Незаконная комета. Варлам Шаламов: опыт медленного чтения
Мы хотели бы проанализировать эти особенности шаламовской композиции на примере цикла «Левый берег». В какой-то момент предполагалось, что он станет финальным, завершающим циклом трехчастной книги «Колымских рассказов», своеобразным подведением итогов. Степень связности настолько велика, что читатель без труда может проследить цепочку прямых перекличек, соединяющую все рассказы «Левого берега».
Одним из непосредственных воплощений этой связи служат «сквозные» персонажи. Доктор Браудэ – свидетель катастрофы, произошедшей с пароходом «Ким» («Прокуратор Иудеи»), – станет также и очевидцем самого невероятного колымского побега («Последний бой майора Пугачева»). Заключенный-инженер Демидов, вызвавший своим независимым поведением гнев высокого лагерного начальства («Иван Федорович»), мелькнет в рассказе «Спецзаказ». Дух председателя Российского общества политкаторжан эсера-террориста Андреева витает над всеми «тюремными» рассказами цикла[15]. Герой рассказа «Прокуратор Иудеи» доктор Кубанцев (лагерное воплощение Понтия Пилата) будет описан в «Потомке декабриста» под фамилией Рубанцев – как Врач с большой буквы: «Опыт и милосердие Рубанцева вспомнились больничным врачам» (1: 302).
Кроме того, цикл густо населен героями – двойниками автора. Андреев, Голубев, Крист, безымянный фельдшер из рассказа «В приемном покое» представляют собой мгновенно опознаваемые вариации авторского «я». Единый во множестве лиц автор/рассказчик обеспечивает связность текста уже как бы самим фактом своего присутствия.
Из рассказа в рассказ повторяются мелкие детали. Одной из второстепенных, дополнительных связок служит, например, кочующая по «Левому берегу» инструкция блатаря Семенова о правилах обращения с лагерной техникой; «Только в лагере и учиться работать на механизмах: берись за всякую работу – отвечать ты не будешь…» в «Потомке декабриста» (1: 295); и в рассказе «Лида»: «Заключенный не должен бояться никаких механизмов. Тут-то и учиться. Ответственности никакой» (1: 322).
Рассказы «Левого берега» как бы дублируют, воспроизводят и проверяют на прочность не только мелкие подробности, но и несущие элементы сюжета. Так, рассказы «Лида» и «Аневризма аорты» представляют собой варианты развития сходной фабулы: жизнь заключенной зависит от того, положат или не положат ее в лагерную больницу. Секретарша Лида («Лида») выживет и еще отплатит добром за добро своему спасителю, фельдшеру Кристу, как бы нечаянно «потеряв» роковую букву «Т» в его лагерном диагнозе КРТД[16]. Катя Гловацкая («Аневризма аорты») погибнет: медицина окажется бессильной не столько перед болезнью, сколько перед системой лагерных отношений. (Рассказы почти зеркально противопоставлены друг другу. Так, например, если для Гловацкой больница означает не только жизнь, но и возможность остаться с любимым человеком, то Лида стремится попасть в больницу, чтобы избавиться от посягательств мелкого лагерного начальника.) И оба рассказа – о чудесном спасении и обыденной гибели – уравновешены третьим («Потомок декабриста»), где врач, стремящийся выжить любой ценой, служит причиной десятков смертей и в том числе самоубийства влюбленной в него женщины.
Аналогичный «переброс» сюжета связывает «Лиду» с рассказом «Мой процесс». Связь эта проявляется постепенно, исподволь и становится очевидной только к финалу рассказа. На первый взгляд «Мой процесс» – это вполне незамысловатая история о том, как рассказчик получил дополнительный десятилетний срок, в частности за то, что назвал Бунина великим русским писателем[17]. Но донос, арест, откровенно циничное лагерное следствие[18] и казенно-конвейерная фикция суда оборачиваются для рассказчика не гибелью, как естественно было ожидать («Я был уверен в суровости приговора – убивать было традицией тех лет» ‐1: 352), а едва ли не удачей: новый срок, помимо всего прочего, означает смену аббревиатуры в личном деле. «Я уже не был литерником со страшной буквой „Т“. Это имело значительные последствия и, может быть, спасло мне жизнь» (Там же) Здесь спасение является уже не результатом благодарного вмешательства «золотой рыбки» – секретарши учетного отдела, но побочным продуктом обычного лагерного круговорота. «Мой процесс» воспроизводит, искажает, в каком-то смысле пародирует основной сюжетный элемент «Лиды».
При этом в рассказе «Начальник больницы»[19] литера «Т» волшебным образом появляется в деле рассказчика снова. «Травля началась недавно, после того, как доктор Доктор обнаружил в моем личном деле судимость по литеру „КРТД“, а доктор Доктор был чекистом, политотдельщиком, пославшим на смерть немало „КРТД“» (1: 373) При этом рассказчик уже является фельдшером, а поступить на фельдшерские курсы заключенный с буквой «Т» не мог. И это обстоятельство прямо упоминается в «Левом береге»: «Есть ли вехи, дорожные вехи? Принимают ли пятьдесят восьмую? Только десятый пункт. А у моего соседа по кузову машины? Тоже десятый – „аса“» (1: 380).
Может быть, эти «я» – разные люди. Может быть, их коснулись разные процедуры. Может быть, рассказчик путается в обстоятельствах. Но, очевидным для читателя образом, полагаться на приведенные рецепты спасения никак не приходится.
История разрушенной любви Кати Гловацкой и Подшивалова как бы «предсказана» судьбой режиссера Варпаховского и певицы Дуси Зыскинд («Иван Федорович»). Тема доноса соединяет «Аневризму аорты» с рассказами «Эсперанто», «Начальник больницы», «Лучшая похвала», «Ожерелье княгини Гагариной», с уже упоминавшимися «Моим процессом» и «Потомком декабриста»[20].
Рассказы отражаются друг в друге, образуют последовательные или параллельные соединения, нестрогие мотивные и тематические подгруппы. Темы доноса, распада, веры, случая-чуда, амбивалентный образ больницы – цепочки связей расходятся, пересекаются, сливаются, организуя единое смысловое пространство цикла.
Цикл «Левый берег» – 25 рассказов, тематически так или иначе прикрепленных к лагерной больнице (частные обстоятельства человеческих судеб и отношений, жизни врачей, пациентов, властей), – ведет учет истории болезни, представляет собой curriculum morbi. Все описываемые в рассказах средства спасения, средства защиты от непреодолимого давления лагеря – будь то медицина, воля к жизни, вера, культура, любовь – оказываются несостоятельными или недостаточными. Они могут – в иррациональном мире лагеря случается все – порой совершать чудеса: так сделанное когда-то добро спасает жизнь Криста, так «рудиментарный орган» (аппендикс), вовремя принесенный в жертву «всемогущему богу лагерей», продлевает жизнь Голубева («Кусок мяса»). Но чудеса эти неокончательны, кратковременны и жестоки: Крист выйдет на «свободу» вольного поселения, в руки той же самой системы, а перед Голубевым («Сколько дней заживает рана? Семь-восемь. Значит, через две недели снова опасность» – 1: 335) замаячит перспектива отправки в каторжные лагеря.
Да и сам островок спасения – больница, стоящая (отсюда и название цикла) на левом берегу безымянной колымской речки, – для многих персонажей всего лишь остановка по дороге к смерти.
И тут находящаяся в состоянии непрерывного самоподрыва композиционная система цикла «Левый берег» дает сбой. В ней обнаруживается модуль, нарушающий текучую устойчивость базовой конструкции.
Речь идет о рассказе «Последний бой майора Пугачева».
2Фабула – история вооруженного побега. Двенадцать заключенных – бывших танкистов, летчиков, разведчиков – разоружают лагерный конвой, захватывают грузовик, пытаются прорваться к аэродрому, чтобы угнать самолет и улететь; окруженные, принимают неравный бой и гибнут.
В пределах цикла этот сюжет не вариативен во всех своих элементах, у него как бы нет другого прочтения, опровержения, композиционной и смысловой амбивалентности, свойственной шаламовскому творчеству. Возможно, отказ от техники вариации, умножения, переноса объясняется характером темы.
Вооруженный побег политических был для лагерной Колымы событием, сравнимым по уникальности с падением Тунгусского метеорита, событием, практически исключающим возможность повторения[21].
В других циклах книги можно отыскать немало вариаций на тему бегства. Рассказ-исследование «Зеленый прокурор» даже включает подробное описание такого побега двенадцати бывших солдат. Но внутри цикла «Левый берег» «Последний бой майора Пугачева» не отзывается даже случайным воспоминанием или замаскированной аллюзией.
Само название «Последний бой майора Пугачева» с легкостью могло бы принадлежать фронтовому очерку «Красной звезды» или одному из военных «Рассказов Ивана Сударева» Алексея Толстого. Такое название позволяет читателю мгновенно отнести рассказ к разряду военной прозы – одному из ведущих направлений современной Шаламову советской литературы.
Военная проза порой принимала на себя некоторые функции лагерной литературы (так, лагерные сцены в романе Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» были явной попыткой инкорпорировать специфически «лагерную» точку зрения в полифоническую структуру «военного» романа). Однако как правило, военная и лагерная литературы пребывали в разных культурных сферах и никак друг с другом не соприкасались.
«Колымские рассказы» достаточно тяжелы для восприятия. Они стремятся переложить на читателя максимум возможной работы по опознанию, по производству смысла. Прямая переадресация читателя к военной прозе – в отношении которой аудитория хотя бы владеет метаязыком, знает, что и как следует читать, – сама по себе создает ощущение неожиданного облегчения, взлета.
Мы могли бы предположить, что весь комплекс связанных с названием рассказа «военных» ассоциаций обязан своим существованием не столько авторскому замыслу, сколько случайному резонансу с культурным полем эпохи. Однако «Последний бой майора Пугачева» нарушает стилистическое единство «Левого берега» (да и «Колымских рассказов» в целом) не только своим названием и отсутствием видимых параллелей внутри цикла.
Сложности тут начинаются с первых строк.
А) Варлам Шаламов определял «Колымские рассказы» как «новую прозу». Одним из основных свойств «новой прозы» Шаламов считал ее абсолютную достоверность и называл это «прозой, пережитой как документ» (6: 494). Но в начальной фразе рассказа «Последний бой майора Пугачева» автор определяет характер будущего повествования словом «легенда», тем самым как бы нарушая собственный художественный канон. Ибо лагерная легенда, обычно у Шаламова снабжаемая презрительным довеском-комментарием «не веришь – прими за сказку», не может восприниматься как документ даже самым доверчивым читателем.
Б) Действие «Колымских рассказов» (это отмечалось неоднократно) происходит «здесь» и «сегодня» – даже если это разные «здесь» и «сегодня». Перемещаясь в пространстве, заключенный фактически не меняет своего положения в лагерной системе координат. Перемещение во времени также почти невозможно – огромные сроки заключения, иррациональность лагерного мира, неизбежный распад памяти и логических функций мозга лишают героев «Колымских рассказов» способности воспринимать течение времени, обращают «сейчас» в неколебимое «всегда»: «а после перестаешь замечать время – и Великое Безразличие овладевает тобой – часы идут, как минуты, еще скорее минут» (1: 426).
В рассказе «Последний бой майора Пугачева» совокупность геометрических точек неожиданно превращается в географическое пространство. Маленький лагпункт «Последнего боя…» находится не просто «на Колыме», в космосе ГУЛАГа. Дорога связывает его с другим географическим объектом, Аэродромом, откуда персонажи собираются улететь За Границу. В мире «Последнего боя…» сама Заграница существует не как источник периодически появляющихся в лагере саперных лопаток, «студебекеров» и солидола, а как географическое понятие, как место, куда, оказывается, можно доехать или долететь.
Еще жестче действие рассказа локализовано во времени: в экспозиции «Последнего боя…» Шаламов опрокидывает собственную концепцию вневременного, «внеисторического» лагеря, подробно объясняя читателю, что вооруженный побег политических заключенных стал возможен только после войны, когда в лагеря хлынул поток людей «со смелостью, с умением рисковать, веривших только в оружие» (1: 362).
Тем самым Шаламов приостанавливает действие аксиомы о порожденном всеобщим растлением и распадом абсолютном одиночестве человека в лагере. Побег пугачевцев является результатом тщательно продуманных и организованных групповых действий, и среди многих знавших о его подготовке не находится доносчиков.
Таким образом, на пространстве рассказа частично обрушена выстроенная всем течением книги концепция лагерной вселенной. (Следует отметить, что все перечисленные нарушения внутреннего канона «новой прозы» «Колымских рассказов» выглядят вполне естественно в контексте «старой» – классической русской и советской литературы, в том числе и военной прозы.)
Логично предположить, что странное для «Колымских рассказов» название «Последний бой майора Пугачева» является не результатом случайного совпадения, но одним из внешних проявлений произошедшего в семантике рассказа тектонического сдвига. Чтобы определить характер этого сдвига, необходимо понять, зачем потребовалось Шаламову вызывать на страницы «Левого берега» призрак военной прозы.
3Коль скоро установленный автором стилистический канон представляет собой знаковую систему, то своеобразным знаком может служить и демонстративное нарушение этого канона, и сам характер этого нарушения. Остается определить роль новообразованного знака – как в пределах рассказа, так и в пределах цикла.
«Последний бой майора Пугачева» нарушает – по крайней мере на первый взгляд – равновесие композиционной и мотивной структур цикла «Левый берег», и потому представляется естественным начать исследование с аналогичных структур самого рассказа. Темпоритмическая структура «Последнего боя…» вполне традиционна для «Колымских рассказов». Стремительное действие перемежается плавными историческими отступлениями, авторскими пояснениями, воспоминаниями, статичными картинами колымской природы. Однако если обычно в «Колымских рассказах» доминирует выразительная функция языка, то в «Последнем бое…» предпочтение явно отдано изобразительной.
Свойственная многим рассказам Шаламова кинематографичность действия здесь распространена на все течение рассказа и сделана опознаваемым приемом. Текст «Последнего боя…» с легкостью раскладывается на последовательный ряд визуально ориентированных «кадров». Движение сюжета осуществляется действием и диалогом.
Они, минуя подлесок, вошли в русло ручья. Пора назад.
– Смотри-ка, – слишком много, давай по ручью наверх.
Тяжело дыша, они быстро поднимались по руслу ручья, и камни летели вниз прямо в ноги атакующим, шурша и грохоча.
Левицкий обернулся, выругался и упал. Пуля попала ему прямо в глаз. (1: 369)
Исключение представляет лишь рамка из экспозиции и заключения, стилистически оформленная как комментарий историка или архивиста. Шаламов использует дальний и средний планы видения, сочетая их в монтаже эпизодов.
Чтобы «подсмотреть», что происходило в штаб-квартире лагерного начальства, автор вводит туда бывшего заключенного, хирурга Браудэ, и именно его глазами видит происходящее. (Более того, присутствие хирурга на месте действия косвенно указывает на то, что фельдшер больницы Шаламов или один из многочисленных «я» «Левого берега» мог узнать о происшедшем от заслуживающего доверия очевидца.)
Кинематографическая природа действия не только выражена авторским приемом, но и напрямую заявлена Шаламовым. В тексте рассказа неоднократно обыгрывается образ киноленты: «…то, что сейчас раскручивается перед его глазами как остросюжетный фильм»; «Будто киноленту всех двенадцати жизней Пугачев собственной рукой закрутил так, что вместо медленного ежедневного вращения события замелькали со скоростью невероятной. И вот надпись – „конец фильма“…» (1: 366).
Обращение к языку кино как бы смещает критерии достоверности. Условность кинофильма как жанра привычна для читателя и не вызывает отторжения. Необходимость внешней организации повествования, монтажа, смены планов подразумевается самой природой киноискусства. Кинематографичность приемов в рассказе превращает читателя в зрителя, в пусть и опосредованного, но очевидца событий. Таким образом, метод повествования как бы компенсирует легендарность, сказочность происходящего.
Прямое сравнение воспоминаний Пугачева с кинолентой как бы уравнивает читателя и персонажа – какое-то время они смотрят один и тот же фильм, разделяют ролевую функцию зрителя[22]. Важно и то, что степень участия читателя-зрителя в действии много выше, чем вовлеченность автора-рассказчика. Ибо последний, полагая происходящее легендой, почти демонстративно отсутствует на месте действия.
Но для того, чтобы полностью – не испытывая внутреннего беспокойства – погрузиться в повествование, читатель должен (хотя бы на подсознательном уровне) опознавать не только метод повествования, но и сам текст.
Элементарное в своей прямолинейности название рассказа раскладывается – как белый свет в спектрографе – на последовательность семантических компонентов.
«Последний бой майора Пугачева».
«Последний» – фоновый мотив неизбежной гибели.
«Бой» – идея войны, по Шаламову, онтологически чужда лагерному миру, ибо в числе прочего подразумевает возможность личного выбора и устанавливает некоторую, пускай минимальную ценность отдельной человеческой жизни.
«Пугачев» – в рассказе-исследовании «Зеленый прокурор» организатор побега назван подполковником Яновским (фамилия национально инертна и предполагает белоруса, поляка, украинца, еврея; воинское звание обозначает возраст и опыт). В «Последнем бое….» герой становится русским, молодеет[23] и приобретает фамилию, которая для советского читателя обозначает:
а) бунт, крайнюю степень несовместимости с существующим порядком вещей (впрочем, Шаламов вносит некоторую поправку в архетипический образ мятежника; сделав вольного казака «Капитанской дочки» майором, автор предупреждает читателя, что ему предстоит увидеть не «русский бунт, бессмысленный и беспощадный», а нечто иное);
б) дерзость, удаль[24].
К этому комплексу понятий следует добавить уже упоминавшееся нами сверхзначение названия – отчетливую принадлежность к «военной прозе».
Таким образом, еще не начав читать «Последний бой майора Пугачева», читатель уже «знает», что персонажам – лихим, отважным парням – предстоит гибнуть с оружием в руках за дело, которое стоит того.
Текст (по крайней мере его семантическая поверхность) полностью соответствует ожиданиям читателя. Рассказчик, строго придерживаясь традиции лагерной легенды, явно героизирует своих персонажей. Беглецы «Последнего боя…» – веселые, смелые, исполненные чувства собственного достоинства люди, верные друзья, умелые солдаты. И прежде чем покончить с собой (чтобы не нашли, не взяли, чтобы ни живым, ни мертвым не вернуться в лагерь), майор Пугачев решит про себя, что одиннадцать его товарищей по побегу были «лучшими людьми его жизни».
Внутри эмоционального поля рассказа гибель героев не является их поражением, ибо задача побега изначально определена так: «…если не убежать вовсе, то умереть – свободными» (1: 363). Поражение терпят лагерные начальники: для них побег Пугачева и его друзей оборачивается потерей самого дорогого – их должностей, привилегий, власти; а для некоторых особо невезучих – свободы и жизни (начальник охраны лагпункта погибнет в бою с беглецами).
4Традиционный эмоциональный ряд героического эпоса облечен в жесткую, мгновенно опознаваемую форму:
Улыбаясь трещинами голубого рта,
показывая вырванные цингой зубы,
местные жители отвечали наивным новичкам… (1: 362)
(Отметим, что здесь границы сталкивающихся звуковых рядов совпадают с тематическими границами значимых частей фразы.)
Тексту «Последнего боя…» присуща исключительная плотность аллитераций и ассонансов. Обычно в рамках предложения ритм и звучание образуют как бы поток обертонов, поддерживающий и дополняющий основное значение фразы: «Деревья на Севере умирали лежа, как люди» (1: 365).
Единицей повествования в рассказе является не фраза, а период – абзац или группа абзацев, объединенных ритмическим и звуковым рисунком, а также семантической структурой.
Стали говорить: когда заезжий высокий начальник посетовал, что культработа в лагере хромает на обе ноги, культорг майор Пугачев сказал гостю:
– Не беспокойтесь, гражданин начальник, мы готовим такой концерт, что вся Колыма о нем заговорит… (1: 361)
Одним из наиболее часто употребляемых в рассказе организующих средств является повтор. Этот прием позволяет одновременно формировать фонетический, ритмический и семантический строй периода. Так, несущей конструкцией только что приведенного отрывка является кольцевой повтор «говорить – заговорит». Относящиеся к той же парадигме глаголы «посетовал» и «сказал» выполняют как бы роль скрытой внутренней рифмы.
Как видно из приведенного примера, построение периодов тяготеет к параллелизму (согласно определению М. Л. Гаспарова, эта воспроизводимость – одно из характерных свойств поэтической строфы[25]).
При этом следует учитывать, что «Последний бой…» изначально предназначен для прочтения сразу в двух кодовых системах – литературной и кинематографической. Обилие наслаивающихся друг на друга интертекстовых отсылок (так, например, в отряде Пугачева двенадцать солдат) создает уже привычный для «Колымских рассказов» густой контекстуальный раствор.
Итак, перед нами химера – героико-эпическое «квазистихотворение» в прозе. Высокий темп повествования, неравномерное действие, организованное вокруг пиков активности, стремительные, рваные диалоги:
Беглецы-солдаты влезли в машину, и грузовик помчался.
– Как будто здесь поворот.
Машина завернула на один из…
– Бензин весь!..
Пугачев выругался. (1: 365)
Плюс эмоциональное напряжение, возрастающее по мере развития действия и не разряжающееся до конца даже драматическим финалом. Сюжет реализуется посредством жесткой композиционной структуры, в которой отчетливо – даже слегка напоказ – выделены все предписываемые литературоведением элементы: от завязки и экспозиции до романтического (самоубийство Пугачева) заключения.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
В первом номере «Вестника русского христианского движения» за 1981 год опубликован вариант, записанный А. Морозовым со слов Шаламова в октябре – ноябре 1980-го: «Я был неизвестным солдатом / Подводной подземной войны, / Истории важные даты / С моею судьбой сплетены» (Шаламов 1981: 115). Что интересно, встык к подборке «ВРХД» опубликовал очередной сегмент «Красного колеса» А. Солженицына.
2
«Мне думается, что проза Белого и Ремизова была единственной русской прозой – восстанием против канонов русского романа» (Шаламов 2013, 6: 195). В дальнейшем проза В. Шаламова, кроме отдельно оговоренных случаев, цитируется по этому изданию с указанием тома и страницы.
3
«И только Вологда, снежная Вологда, ссыльная Вологда – молчала. Я знал почему. Этому было объяснение. В 1918 году в Вологду приехал начальник Северного фронта М. С. Кедров. Первым его распоряжением по укреплению фронта и тыла был расстрел заложников» (2: 195).
4
Потом он цитировал себя же в «Вишере»: «Какие же вы вожди, – сказал я, – что вы не знаете, где ваши люди» (4: 247).
5
Впоследствии эту фразу процитирует в своей Нобелевской речи Светлана Алексиевич, объясняя, летописцем какого именно общества она себя ощущает. Но для Алексиевич попытка построения нового мира есть задача, обреченная по определению; для Шаламова же и тогда, когда он писал воспоминания о Москве двадцатых годов, кажется, горестным обстоятельством было само поражение и то, что причиной его оказались фундаментально неверные представления о человеке и природе человека – могло быть иначе.
6
Интересно, что именно отказ от привычной разметки и отсутствие привязки к конкретной исторической и этической ситуации (позволяющей трактовать лагерь как событие прошлого), оттолкнувшие не только Чуковскую или Дара, позволил Алену Бадью опознать в Шаламове своего и опираться на «Колымские рассказы» в попытках сформулировать новый левый способ мыслить политику (см.: Бадью 2005).
7
Cм., например, замечательное расследование Якова Клоца, посвященное исключительной по невежеству и небрежению историей публикации «Колымских рассказов» в тамиздате. Так, Роман Гуль, главный редактор «Нового журнала», не только публиковал «Колымские рассказы» вразброс, не только редактировал их под свой вкус, никак не сообразуясь с шаламовской поэтикой (например, выбросив из рассказа «Шерри-бренди» все, что позволяет опознать его как художественный текст, а не как отчет о реальных обстоятельствах гибели Мандельштама), но и мотивировал потом фактом этой же варварской правки затруднительность перевода «Колымских рассказов» на польский: «У меня две разных рукописи и обе на тяжелейших зероксах – сто пудов! Но это не препятствие, в конце концов. А препятствие вот в чем. Помещенные в „Н<овом> Ж<урнале“) рассказы Шаламова – отредактированы мной и иногда довольно сильно. Без редакции его рассказы помещать нельзя, это будет плохо. И переводить их прямо с рукописи – будет нехорошо. Как тут быть – я не знаю» (Клоц 2017).