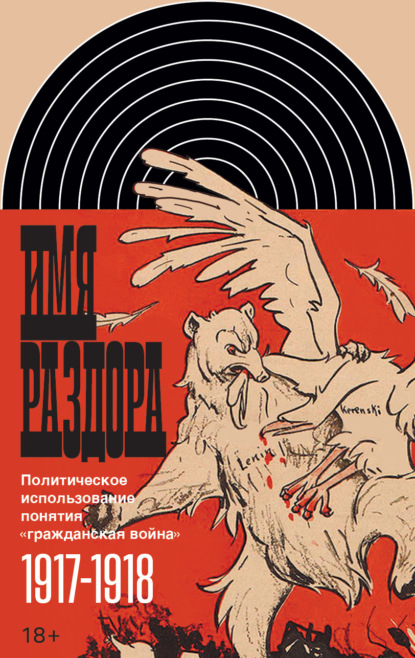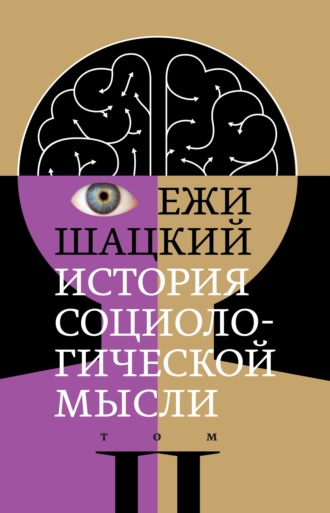
Полная версия
История социологической мысли. Том 2
Подобное происходило и в британской социологии, которой, однако, мы сейчас заниматься не будем, так как в первой половине XX века она развивалась (в отличие от британской социальной антропологии) очень слабо и имела безнадежно эпигонский характер. Американская же социология с начала века стремительно расширяет сферы своего влияния, что в результате надолго обеспечит ей ведущую позицию в мире и приведет к тому, что социологию назовут «американской наукой».
Конечно, эта экспансия американской социологии была в значительной степени обусловлена факторами, не имеющими отношения к ее содержанию: в США социология впервые в своей истории получила солидную институциональную базу (прежде всего в виде организованного Альбионом Смоллом в 1892 г. факультета социологии и антропологии в недавно основанном Чикагском университете) и материальные средства на исследования, о которых не могли мечтать социологи в странах более бедных и, что еще важнее, слишком консервативных, чтобы инвестировать в новую – и из‐за своей новизны подозрительную – науку.
Бурное развитие американской социологии было бы, однако, невообразимо, если бы организационным успехам не сопутствовала интеллектуальная революция, ведущая к освобождению из-под влияния «измов» XIX века и решимости совершить нечто большее, чем адаптация европейских доктрин[129], к чему в значительной степени сводилось творчество пионеров социологии на американской почве. Такие ученые, как Уильям Грэм Самнер (William Graham Sumner) (1840–1910) или Альбион Вудбери Смолл (Albion Woodbury Small) (1854–1926), способствовали популяризации новой науки и ее адаптации к локальной традиции с сильным оттенком индивидуализма и волюнтаризма, но не они создали американскую социологию. В своих наиболее оригинальных чертах она, наряду с так называемой «новой историей» и «новой психологией», являла собой результат той интеллектуальной революции, какой был в американской жизни прагматизм.
Некоторые черты этой философии, роднящие ее с позитивизмом, мешают европейскому наблюдателю увидеть глубину и масштабы этой революции. По сравнению с тем, какую роль в европейской мысли сыграли неогегельянство, неокантианство, бергсонианство, а также другие направления «антипозитивистского перелома», спор прагматистов с позитивизмом XIX века может показаться лишенной особого значения домашней ссорой. Но если мы все же примем во внимание все последствия этого спора, то окажется, что его ни в коем случае нельзя обойти вниманием, хотя прагматисты действительно сохранили многое из позитивистского наследия. С точки зрения проблематики этой книги особенно важен связанный с прагматической философией переворот в психологии и намного более медленный процесс формирования особого социологического направления, известного сегодня как символический интеракционизм, которое многие авторы считают наиболее оригинальным вкладом американцев в социальную теорию[130].
Вслед за его создателями мы будем пока что использовать определение «социальный прагматизм». По причинам, которые должны стать понятны далее, это определение нередко применяли как синоним термина «социальный бихевиоризм». Определение «символический интеракционизм» было использовано спустя много лет Гербертом Блумером как название направления, являющегося продолжением изысканий, начатых социальными прагматистами: Джеймсом, Кули, Дьюи, Томасом и Мидом.
1. Прагматизм и социальная мысль
Рассмотрение прагматизма как такового не является здесь нашей целью, поскольку о нем существует очень много историко-философских работ. Но обязательным представляется обсуждение главных направлений его влияния на социальные науки, особенно же на социологию, где связанная с именем Уильяма Джеймса (William James) (1842–1910) «‹…› идея открытого мира, в котором была натурализована неуверенность, выбор, гипотеза, новизна и возможность»[131] нашла, пожалуй, самый сильный отклик. Принимая эту идею, прагматизм совершил тотальную деструкцию спенсеризма (неимоверно сильного в ранней американской социологии): он создал концепцию человека как действующего субъекта, а не только объекта, подчиняющегося законам природы и разве лишь наблюдающего за независимыми от него процессами. Вместе с тем, однако, прагматизм обещал дать право на сохранение популяризированной спенсеризмом нормы научности, а также возможность экспериментальной науки. Он не был простым отрицанием доминирующей до сих пор социальной философии; прагматизм сохранял некоторые ее важные элементы, а среди них идею эволюции. Эту двойственность прагматизма замечательно передают размышления Джеймса: «Вы ищете такой системы, которая сумела бы соединить в себе две вещи: с одной стороны, честное научное обращение с фактами и готовность считаться с ними – словом, дух приспособления, а с другой – старую веру в человеческие ценности и в вытекающую из них спонтанность, – безразлично, романтического или религиозного типа»[132].
Граница между прагматизмом и спенсеризмом была в американской мысли границей эпох. «Взгляд Спенсера, – как пишет Хофстедтер, – прекрасно передавал период ожидания спасения от автоматического прогресса и laissez-faire; прагматизм был освоен национальной культурой тогда, когда люди начали думать о манипуляции и контроле. Спенсеризм был философией неизбежности, прагматизм стал философией возможности. Центром логической и исторической оппозиции прагматизма и спенсеровского эволюционизма был подход к отношениям между организмом и окружающей средой. Спенсер удовлетворился тем, что признал среду устойчивой нормой – позиция, свойственная тому, кто в принципе не имеет никаких жалоб на существующий порядок. Прагматизм, имеющий более позитивный взгляд на деятельность организма, видел в окружающей среде нечто, чем можно манипулировать. Господствующие взгляды подвергла сомнению именно прагматическая концепция отношения интеллекта к среде ‹…› Самым значительным вкладом прагматизма в развитие социальной мысли было пробуждение веры в эффективность идей и возможность новизны ‹…› В той же степени, в которой Спенсер выступал за детерминизм и контроль человека окружающей средой, прагматисты выступали за свободу и контроль среды человеком»[133].
Ключевое значение имела предложенная прагматистами концепция человека, которая не оставляла места ни представлению о нем как готовом творении природы (каким он был, например, в инстинктивистских концепциях), ни концепции tabula rasa[134], пассивно испытывающей влияние природной или социальной среды. Человек становится тем, чем он есть, в процессе интеракции с окружающей средой, частью которой, конечно, являются другие активные организмы. Познание мира – часть этого процесса. Познающий субъект, как писал Джеймс, – это «‹…› не подвижное зеркало, лишенное какой-либо опоры и пассивно отражающее традиционный или просто существующий порядок. Познающий субъект – это, с одной стороны, актор, являющийся сотворцом истины, с другой же – некто, кто регистрирует истину, к созданию которой причастен. Интересы, гипотезы, постулаты – поскольку являются основой человеческой деятельности, в значительной степени меняющей мир, – помогают делать истину, которую провозглашают. Иначе говоря, интеллекту с момента рождения полагается спонтанность и право голоса. Это орган, а не только зритель; его суждения о том, что должно быть, его идеалы не могут быть содраны с тела cogitandum[135] так, как если бы были наростами или, как принято считать, пережитком»[136].
Прагматизм был, особенно в версии Джеймса, индивидуалистической философией, но такое общее определение может иметь какой-либо смысл, лишь пока нас интересует черновое разделение концепций на «индивидуалистические» и «коллективистские», «номиналистические» и «реалистические». Как аналитическая категория оно малопригодно. Прагматизм был индивидуализмом в том смысле, что его представители отрицали возможность понимания общества иначе, чем в качестве совокупности влияющих друг на друга индивидов. Однако, за исключением этого взаимовлияния, индивид был для них абстракцией, метафизической фикцией, против которой они выступали в своей критике Спенсера, Уорда и Кидда. «Общество, – писал Джон Дьюи, – есть такой процесс ассоциирования, при котором опыт, идеи, эмоции, ценности передаются и становятся общими. И индивидуума, и институциональные формы организации поистине можно считать подчиненными этому активному процессу. Индивид подчинен ему потому, что только в общении и посредством передачи опыта от других и другим он может не быть бессловесным, просто воспринимающим, примитивным животным. Только в ассоциации с себе подобными он становится сознательным субъектом опыта. Организация, как она в целом подразумевалась в традиционной теории под понятиями общества или государства, также подчинена этому процессу, поскольку она становится статичной, жесткой и застывшей в институтах во всех тех случаях, когда не служит облегчению и обогащению контактов между человеческими созданиями»[137].
Конечно, можно сказать, что такой постановке вопроса Дьюи способствовали достижения американской социологии и социальной психологии, на которые этот философ оказывал влияние, испытывая одновременно и их воздействие. Тем не менее, даже в версии Джеймса прагматизм создавал предпосылки для такого способа мышления, а происходило это потому, что, как мы уже сказали, он отвергал концепцию человека как чего-то данного, готового, как существа, ищущего в обществе средств осуществления врожденных прав, удовлетворения потребностей и инстинктов. Именно процесс социальной интеракции делает его участников людьми, меняя и ограничивая действие биологических инстинктов. Если в центре внимании для прагматистов остается индивид, то он в силу самого определения социален.
Наконец, значимой с точки зрения влияния на социальную мысль чертой прагматизма был его программный антидуализм, отменяющий традиционную оппозицию между душой и телом, сознанием и бытием, мышлением и действием, организмом и средой, индивидом и обществом[138]. В центре внимания оказалось понятие процесса, на что повлияли как дарвиновская, так и гегелевская традиции, особенно сильная в начальной фазе формирования взглядов Дьюи.
2. Психология Джеймса
Исследователи сходятся во мнении, что зачатки основной проблематики социального прагматизма (а также современного символического интеракционизма) следует искать в The Principles of Psychology[139] (1890, 2 т.) Уильяма Джеймса, хотя он сам интересовался вопросами социальной теории в очень небольшой степени. Если вообще можно говорить о социальной психологии создателя прагматизма (слово «социология» не имело бы здесь совершенно никакого смысла), то только как о «‹…› побочном продукте его рассуждений на тему таких связанных с этой областью проблем, как „привычка“, „инстинкт“, „поток сознания“ и особенно „социальная самость“»[140]. Более того, соответствующие высказывания Джеймса могут быть интерпретированы по-разному и не составляют никакого систематического целого. Будучи проницательным критиком и великим вдохновителем, автор «Принципов психологии» ни в коем случае не был создателем упорядоченной теории. Социолог мог найти в его труде разве что отдельные идеи. Как писал Кули, социальный или социологический прагматизм был лишь на пороге своего возникновения[141].
Роль Джеймса как инициатора оригинального направления социологической мысли заключалась в том, что в центре его внимания оказался человеческий индивид, участвующий в процессе социальной интеракции. Благодаря ему часть социологов (не будем здесь затрагивать вопрос его влияния на становление социальной психологии) осознала, что «индивид» – используя удачную формулировку Дьюи – это «‹…› всеобъемлющий термин для колоссального разнообразия отдельных реакций, привычек, склонностей и потенций человеческой природы, которые рождаются и крепнут под влиянием совместной жизни»[142], а не название молекулы, находящейся в таких же отношениях с другими молекулами, как физические тела с другими телами. Джеймс обнаружил или как минимум создал условия для обнаружения того, что исследование социальных процессов должно быть одновременно исследованием процесса становления человеческого индивида, который только в процессе этой интеракции приобретает свои основные свойства. В этом, впрочем, заключалась новизна джеймсовского индивидуализма, поскольку старые индивидуалистические концепции, как правило, рассматривали как условие и отправную точку интеракции данные черты человеческого индивида, а общество скорее удовлетворяло уже существующие потребности, чем создавало их. Кроме того, Джеймс разработал категории, которые оказались ключевыми для изучения этого процесса, прежде всего понятие социальной самости (social self)[143].
Из перечисленных Карпфом проблем наименее важной была в психологии Джеймса проблема инстинктов, значение которой он умалял, считая, например, что «‹…› человек отличается от низших животных почти полным отсутствием инстинктов»[144] или же что у человека инстинкты исчезают по мере формирования привычек[145]. И именно привычка занимает в психологии Джеймса центральное место. Хотя это понятие у него и не полностью ясно, но основная интенция не вызывает сомнений: речь идет о переориентации психологии на исследования усвоенного поведения, то есть детерминированного скорее социально, чем биологически. Невзирая на значение, придаваемое «врожденным склонностям», главной проблемой для Джеймса было формирование человеческого поведения в ходе жизни среди других людей. Это имело важные социологические последствия (не будем говорить о том, сознавал ли он их сам), поскольку влекло за собой признание, что социальная жизнь отлична от жизни, управляемой биологическими инстинктами или «привычками», к которым есть «врожденная склонность». Усвоенная «привычка, – писал Джеймс, – это маховое колесо общества»[146].
Конечно, подчеркивание роли привычки должно было быть направлено не только против преувеличения роли биологических инстинктов, но и против философов, редуцирующих поведение человека до сознательных и разумных актов. Человек остается у Джеймса дарвиновским организмом, хотя и является организмом особого типа или даже особым организмом, живущим в особой среде.
Взгляды Джеймса на роль привычек не имели бы, однако, особого значения, если бы не были связаны с новой – активистской – концепцией человека, о которой мы уже ранее упоминали. Иначе говоря, они не были просто очередным признанием старого тезиса о примате среды по отношению к наследственности. Если мы рассматриваем их таким образом, то необходимо добавить, что в этой концепции человек является интегральной частью среды, а сама среда – это не нечто просто данное и находящееся вне человеческого контроля, она постоянно меняется, и главная движущая сила этих изменений – человеческая активность. Меняя среду, человек меняется сам; меняя себя, он меняет свою среду.
Социологические аспекты психологии Джеймса отчетливее всего проявились в его анализе социальной самости (social self) – анализе, важным условием которого был отказ от понятия какого-либо субстанционального сознания и замена его понятием непрерывного процесса возникновения индивидуального самосознания в ходе интеракции с другими людьми. В процессе познания мира человек выступает в равной степени как познающий субъект («субъективное я», I) и как познаваемый объект («эмпирическое я», me). Это «эмпирическое я» включает в себя все, что индивид называет «своим» и что может быть для него источником определенного рода эмоций (self-feeling), а также побуждать к определенного рода действиям (self-seeking и self-preservation) – стало быть, «не только его физические и душевные качества, но также его платье, дом, жена, дети, предки и друзья, его репутация и труды, его имение, лошади, его яхта и капиталы»[147]. В ходе дальнейших рассуждений Джеймс выделяет «материальную самость» (тело, одежда, дом, семья, принадлежащие индивиду вещи, особенно приобретенные благодаря собственному труду), «социальную самость» и «духовную самость».
С нашей точки зрения, особенно важна социальная самость, поскольку, описывая ее, Джеймс проводит глубокий анализ процесса возникновения ощущения индивидуальной идентичности, происходящего, когда человек представляет себе, как его оценивают другие, а также каковы по отношению к нему ожидания людей, мнение которых для него важно. Так как индивид участвует обычно во множестве различных групп, появляется проблема множества социальных самостей, каждая из которых до определенной степени иная: разным людям человек показывает разные стороны самого себя, играя как бы разные роли. В результате, как пишет Козер, «‹…› Джеймс заложил основы социальной психологии как Кули, так и Мида, а также ‹…› более поздней ‹…› теории ролей»[148].
3. Дьюи как создатель социального прагматизма
Решающую роль в процессе возникновения социального прагматизма сыграл все же, как представляется, Джон Дьюи
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Практика (греч.). Здесь – единство мысли и действия. – Примеч. пер.
2
См.: Hughes H. S. Consciousness and Society. The Reorientation of European Social Sought 1890–1930. New York, 1961. Part 3; Bottomore T. B. Introduction // Marx K. Selected Writings in Sociology and Social Philosophy / Ed. by T. B. Bottomore, M. Rubel. London, 1961; Idem. Marxist Sociology. London, 1975.
3
Это касается даже такого «открытого», впрочем, теоретика, как Карл Каутский, что видно на примере его отношения к Максу Веберу. См.: Salvadori M. L. Kautsky and Weber. Common Problems and Different Approaches // Karl Kautsky and the Social Science of Classical Marxism / Ed. by J. H. Kautsky. Leiden; New York, 1989. P. 91–108.
4
См.: Walicki A. Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej utopii / Tłum. A. Walicki. Warszawa, 1996. Cz. 3.
5
«Очерки по истории и теории социализма. Сборник статей» (нем.). – Примеч. пер.
6
«Материалистическое понимание истории» (нем.). – Примеч. пер.
7
«Марксова теория исторического процесса, общества и государства» (нем.). – Примеч. пер.
8
«Казуальность и телеология в спорах о науке» (нем.). – Примеч. пер.
9
«Проблемы марксизма: к вопросу о теории материалистического понимания истории и диалектики» (нем.). – Примеч. пер.
10
«Учебник материалистического понимания истории. Социология марксизма» (нем.). – Примеч. пер.
11
«Финансовый капитал. Исследование новейшей фазы в развитии капитализма» (нем.). – Примеч. пер.
12
«Национальный вопрос и социал-демократия» (нем.). – Примеч. пер.
13
«Социализм и позитивная наука: Дарвин, Спенсер, Маркс» (ит.). – Примеч. пер.
14
Kautsky K. Nature and Society // Karl Kautsky and the Social Science. P. 75.
15
Каутский К. Материалистическое понимание истории. Т. 2: Государство и развитие человечества / Пер. с нем. Е. А. Преображенского. М.; Л.: Государственное социально-экономическое издательство, 1931. С. 630.
16
Маркузе Г. Разум и революция. Гегель и становление социальной теории / Пер. с англ. А. П. Шурбелев. СПб.: Владимир Даль, 2000. С. 502.
17
Грамши А. Искусство и политика. Т. 1. М.: «Искусство», 1991. С. 86–87.
18
Бернштейн Э. Возможен ли научный социализм? // Свободная мысль. 1992. № 16. С. 105.
19
Каутский К. Этика и материалистическое понимание истории. Опыт исследования / Пер. с нем. К. Когана и Б. Яковенко. 2-е изд., стер. М.: Едиториал УРСС, 2003. C. 130–131.
20
Гильфердинг Р. Финансовый капитал. Исследование новейшей фазы в развитии капитализма / Пер. с нем. И. И. Степанова-Скворцова. М.: Издательство социально-экономической литературы, 1959. С. 44.
21
Korsch K. Marxism and Philosophy. London, 1970. P. 62.
22
См., например: Rudziński R. Ideał moralny a proces dziejowy w marksizmie i neokatyzmie. Warszawa, 1975. Rozdz. 5.
23
Kowalik T. Filozofia społeczna Ludwika Krzywickiego // Polska myśl filozoficzna i spoleczna / red. B. Skarga. Warszawa, 1975. T. 1. S. 427.
24
«Народы: обзор этнической антропологии» (польск.). – Примеч. пер.
25
«Физические расы» (польск.). – Примеч. пер.
26
«Психические расы» (польск.). – Примеч. пер.
27
«Социальное развитие среди животных и у человеческого рода» (польск.). – Примеч. пер.
28
«Социально-экономический строй в период дикости и варварства» (польск.). – Примеч. пер.
29
«Социологические исследования» (польск.). – Примеч. пер.
30
«Первобытное общество и его демографическая статистика» (англ.). – Примеч. пер.
31
Krzywicki L. Ustroje społeczno-gospodarcze w okresie dzikości i barbarzyństwa. Warszawa, 1914. S. 328.
32
Kowalik T. Filozofia. S. 427.
33
Krzywicki L. Rozwój społeczny wśród zwierzót i u rodzaju ludzkiego // Krzywicki L. Wybór pism / Wyboru dokonała i wstępem opatrzyła H. Hołda-Róziewicz. Warszawa, 1978. S. 340–341.
34
Krzywicki L. Idea a życie // Krzywicki L. Wybór pism. S. 340–341.
35
Krzywicki L. Rozwój społeczny. S. 352.
36
Во фр. текстах автора – «la loi de la rétrospection revolutionnaire». Иногда переводится на рус. яз. как «закон ретроспекции в революции» или «закон ретроспективности». – Примеч. ред.
37
Лукач Д. Большевизм как моральная проблема // Лукач Д. Политические тексты. М.: Три квадрата, 2006. С. 5–6.
38
Безансон А. Интеллектуальные истоки ленинизма. М.: Издательство «МИК», 1998. С. 207.
39
См.: Therborn G. Critical Theory and the Legacy of Twentieth-Century Marxism // The Blackwell Companion to Social Theory / Ed. by B. S. Turner. Oxford; Cambridge, 1996. P. 62.
40
Ленин В. И. Материализм и эмпириокритицизм // Ленин В. И. Полное собрание сочинений. 5-е изд. М.: Издательство политической литературы, 1968. Т. 18. С. 350.
41
Там же. С. 350–351.
42
См.: Kozakiewicz H. Inna socjologia. Studium zapoznanej metody. Przyczynek do sporu o wyjaśnienie zjawisk społecznych. Warszawa, 1983.
43
Андерсон П. Размышления о западном марксизме. М.: Интер-Версо, 1991. С. 20.
44
Ленин В. И. Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов? (ответ на статьи «Русского богатства» против марксистов) // Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 1: 1893–1894. 5-е изд. М.: Издательство политической литературы, 1967. С. 143.