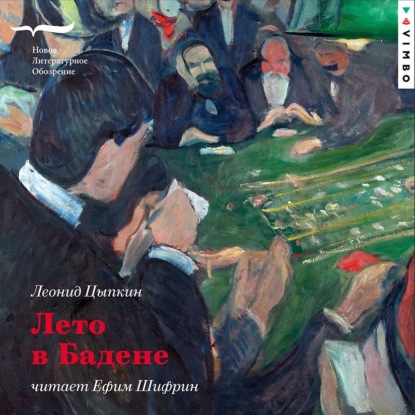Полная версия
Наши тени так длинны

Ян Каплинский
Наши тени так длинны
© Я. Каплинский, 2018
© С. Завьялов, редактура стихотворных текстов, предисловие, 2018
© ООО «Новое литературное обозрение», 2018
* * *От каждого стихотворения остается шрам
1
На Дальнем Востоке классической поры существовало представление о том, что поэт, достигнув мастерства, должен сменить имя и начать карьеру сначала. Действительно: имя не должно заслонять собой искусство. И вот, автор этой книги, страстный поклонник и пропагандист дальневосточной, в частности китайской, культурной традиции, приближаясь к семидесятилетнему рубежу, продемонстрировал, что это значит применительно к современным европейским реалиям. Он перешел на язык, переживавшийся большинством его старых читателей как язык угнетения и насилия, и оттолкнул от себя какую-то часть этих читателей, но в итоге он нашел читателей новых, ничего не знающих и, по сути, не желающих знать ни о его всеевропейской известности, ни о его центральном месте в той литературе, в которой он полвека работал, читателей, которым в его стихах были важны именно стихи как таковые.
Получился небывалый эксперимент: поэтическая биография Яна Каплинского началась, таким образом, как бы заново, когда в 2014 году в таллинском издательстве «Kite» / «Воздушный змей» вышла его первая русская книга «Белые бабочки ночи». Она сразу была замечена: Русская премия, шорт-лист премии Андрея Белого, шорт-лист премии «Различие» и огромное множество рецензий. Среди последних прежде всего обращают на себя внимание написанные молодыми, теми, чьи имена – среди наиболее впечатляющих явлений сегодняшней поэзии. За ней последовала вторая книга, «Улыбка Вегенера» (2017), изданная в одной из немногих сейчас репрезентативных поэтических серий, «Поэзия без границ». И вот – большая книга «Наши тени так длинны», включающая, кроме их переиздания (первая книга разделена здесь на две: «Инакобытие» и собственно «Белые бабочки…»), и новую русскую книгу, так и называющуюся – «Третья книга стихов». Но главным в этой книге видится другое: это три раздела стихов, переведенных с эстонского, которые соединяют вместе двух Каплинских: национального классика и яркого дебютанта.
Первая эстонская книга стихов Каплинского, тогда еще студента романской кафедры Тартуского университета, «Jäljed allikal»/«Следы у родника», появилась в 1965 году. Она вошла в так называемую «кассету», изобретение оттепельных лет, заключавшееся в том, чтобы каждый год выпускать и продавать вместе вставленные в футляр книги нескольких поэтов-дебютантов (а иногда и прозаиков). Такие кассеты на некоторое время (1962–1967) определили лицо молодой эстонской литературы, дав поколению, родившемуся перед и во время войны, имя «кассетного». Примечательно, что четверть века спустя, в перестройку, эту практику повторит в Ленинграде издательство «Советский писатель», знакомя читателей с неподцензурной поэзией 1970–1980-х: Аркадием Драгомощенко, Виктором Кривулиным, Еленой Шварц.
2
1960-е годы стали революционными во всей Европе, как Западной, так и Восточной. Другое дело, что эта революционность, вызванная в различных странах различными мотивами протеста или, скорее, различными травмами, порождающими протест, была очень несходной. Мало того, несходной она была и в различных республиках СССР.
Глубочайшей травмой, переживаемой в прибалтийских республиках, была утрата в результате Второй мировой войны независимости.
Сначала она повлекла за собой репрессии против буржуазии и буржуазной интеллигенции в июне 1941 года. Среди жертв этих репрессий был и отец поэта, в середине 1930-х годов приехавший из Польши преподаватель университета филолог Ежи Каплинский.
Затем, в сентябре 1944 года, в ожидании новых проскрипций после грядущего возвращения Красной армии, состоялось массовое бегство самых разных слоев населения в Германию и Швецию.
Наконец, в марте 1949 года, произошла масштабная депортация. Под нее попали крестьяне, в той или иной форме сопротивлявшиеся проводимой коллективизации сельского хозяйства.
Если в 1930-е годы, особенно после разгона парламента в 1934 году (в результате победы на выборах ультраправых), в эстонском обществе были достаточно заметны левые и интернационалистские настроения (так, среди членов первого руководства Эстонской ССР были значительные поэты-модернисты, как Йоханнес Варес-Барбарус и Йоханнес Семпер, не протестовал против установления советской власти и крупнейший прозаик Фридеберт Туглас), то послевоенное время и особенно годы оттепели породили острое переживание эстонцами своей европейской идентичности и инаковости даже не столько по отношению к советской идеологии, сколько по отношению к общесоветскому укладу жизни.
Схожей, пусть со своими особенностями, была ситуация и в Латвии, и в Литве: в поколении поэтов, родившихся накануне или во время войны и дебютировавших в 1960-е, отчетливо прослеживается «европейская линия», манифестирующая себя прежде всего переходом к свободному стиху (самые значимые фигуры: в Эстонии, кроме Каплинского, еще и Пауль-Ээрик Руммо, в Латвии – Ояр Вациетис, в Литве – Сигитас Гяда).
В каком-то смысле культурная ситуация 1960-х годов в Прибалтике напоминала скорее «страны народной демократии» с их попытками придания социализму «человеческого лица», нежели Москву, не говоря уже о Ленинграде и русской провинции, и, тем более, других союзных и автономных республиках, хотя в СССР повсеместно, даже в самой дальней глуши, происходила в это время отмена жесткого послевоенного регламента, сравнимого после серии постановлений Оргбюро и Политбюро ЦК ВКП(б) 1946–1948 годов, посвященных различным сферам культуры, с объявлением чрезвычайного положения в культуре.
Если оставить в стороне поэтов, манифестирующих себя как политических оппозиционеров существующему режиму, различие в публикационной практике и эстетической допустимости между Таллинном – Ригой – Вильнюсом и Москвой – Ленинградом были разительными. Это бросается в глаза, если открыть антологию «Советская поэзия» (1977), вышедшую в самой респектабельной из советских книжных серий, «Библиотеке всемирной литературы»: подборки значительной части помещенных там эстонских, латышских и литовских поэтов скорее напоминают тексты, переведенные с европейских языков для журнала «Иностранная литература», если вообще не тексты, ходившие в русскоязычном самиздате.
Среди них и юношеская «Песня о жизни и смерти» (1964) Каплинского, пусть и в искалеченном силлаботонизацией переводе Владимира Шацкова:
Я знаю:на тяжелой, влажной пашне,на трещинах камней, на стоптанной дороге,хранящей след животных и людей,я оживаю…Антология вышла к 60-летию Октябрьской революции, составляли ее литературные чиновники от каждой из советских республик. То, что в прибалтийских республиках они не препятствовали формальному обновлению поэтического языка и сочли репрезентативной именно такую картину, – важнейшее свидетельство о тех подспудных процессах, которые в 1990 году привели к выходу компартий Эстонии и Литвы (в Латвии ситуация была сложнее) из КПСС.
Ни писавший по-русски эстонец Арво Метс, ни Владимир Бурич, ни Вячеслав Куприянов, ни Геннадий Алексеев, не говоря уже о Яне Сатуновском, Генрихе Сапгире, Всеволоде Некрасове или тем более Геннадии Айги, не могли рассчитывать на легализацию своей поэтики. И им противостояли не только чиновники, но, что самое горькое, поэты, в том числе и оппозиционные (общеизвестно мнение Бродского о свободном стихе), что отодвинуло расставание в России с обветшавшим традиционным стихосложением на целые полвека.
Это не значит, что в Эстонии не было консервативного неоклассицизма.
Его представители превалировали и среди поэтов поколения, сформировавшегося в двадцатилетие независимости, и среди поэтов послевоенного, уже советского поколения, но дубина национальной классики не была такой тяжеловесной, как в России, что делало позицию ее сторонников не столь незыблемой. Нельзя видеть случайность в том, что в 1970-е годы даже такие официальные фигуры, как Дебора Вааранди, периодически обращаются к свободному стиху. С другой же стороны, нельзя счесть случайностью и тот факт, что ни одни эстонский поэт не стал, подобно их соседям, литовцу Эдуардасу Межелайтису и латышу Ояру Вациетису, лауреатом Ленинской или всесоюзной Государственной премии.
Это не значит и того, что в Эстонии не было поэтического самиздата. Он был (как был и тамиздат – много поэтов первого ряда, таких как Мария Ундер, Ильмар Лаабан, Калью Лепик, оказались в результате войны в эмиграции), но он играл совершенно иную роль: Уку Мазинг и Артур Алликсаар, наиболее значительные из поэтов, стихи которых ходили в самиздате, были злостными нарушителями правил: первый – дискурсивных, второй – социальных.
Далее, что важно представлять себе русскому читателю, – иной, если так можно выразиться, недостаточно окрепший, фундамент национальной классики. Итальянской классической поэзии в годы юности Каплинского было уже более 600 лет (Данте), французской – под 500 (Вийон), английской – под 400 (елизаветинцы), русской (Пушкин) и польской (Мицкевич) – хотя бы 150.
В эстонской же поэзии, во-первых, не было такой эпонимической фигуры (в соседней Латвии был Райнис), во-вторых, немало представителей первого поколения профессиональных эстонских поэтов, участников литературной группы «Noor Eesti» / «Молодая Эстония», будучи ровесниками дедушек и бабушек нашего поэта (как, например, Густав Суйтс и Фридеберт Туглас), были еще живы. Кроме прочего, годы расцвета этого поколения падали на десятилетие перед Первой мировой войной, из чего следует, что профессиональной эстонской поэзии было в послевоенные годы менее, чем полвека. К тому же запоздалая неоромантическая экзальтация «молодых эстонцев» как нельзя менее соответствовала травматическому опыту послевоенного детства. Получалось, что стоявшая перед поколением Каплинского задача была не в вос-создании некогда бывшего «досоветского рая», как это во многом мыслилось в Москве – Ленинграде (увы, без «досоветского рая» в эстонской ментальности тоже не обошлось), а в создании принципиально нового: поэзии европейского склада на своем языке, причем языке неевропейского происхождения и неевропейской структуры. Для сравнения, вышеупомянутый Уку Мазинг писал: «не увязнуть в индоевропейском менталитете».
3
За приблизительно десять лет работы на русском языке Каплинский выпустил три книги стихотворений; самих стихотворений около полутора сотен. За полвека работы на эстонском языке – семнадцать книг; далеко не полное собрание стихотворений за первые сорок лет творчества, «Kirjutatud» (буквально: «Написанное»), вышедшее в 2000 году, включает в себя почти тысячу стихотворений. Так что те полторы сотни переводных стихов, что вошли в эту книгу, дают об этой части творчества поэта лишь самое беглое представление.
Их поэтика порой радикально менялась, обращаясь то к театрализованной риторике, вызывающей в памяти высокий модерн (как стихи о покорении Цезарем Галлии), то к минималистскому лаконизму, множество трансформаций претерпела и собственно стихотворная строка, то сжимаясь до одного слова, то выходя из берегов страницы и превращаясь в некий нерасчленимый поток. Однако, поразительным образом, эти формальные контрасты не нарушали узнаваемости, мало того, ее не нарушила даже смена языка, лишний раз доказывая, что поэзия – не «лучшие слова в лучшем порядке», не «диктат языка», а нечто иное, проблематику чего и разрабатывает данная книга.
Если ты смог так долго жить вместе с тишиноютебе может быть удастся рассказать о ней без образов и слови ты поймешь что есть общее между запахомпрошлогоднего снега и полетом летучей мышинад древним каменным мостом и тенямиодного мальчика и его кота на голой белой стенеза которой почти кончаются воспоминания и надеждыПримечательно, что разницы в языке между переводами и оригинальными русскими стихотворениями, в сущности, нет: и те и другие написаны грамматически и стилистически правильным литературным языком, но чуть-чуть как бы лишенным кислорода, и эта обескровленность дает удивительный эффект: язык звучит как мертвый в высоком смысле этого понятия, как звучит мертвой латынь для тех, кто не принял ни Второго Ватиканского собора с переходом на профанные наречия, ни академического реконструированного «кеканья» (Кикерон, Хоратий), как когда-то звучал мертвым ашкеназский древнееврейский. Наконец, поэт задумал подъем еще на одну ступень, уводящую еще далее в небытие языка: использование дореформенной орфографии – и небольшая часть тиража «Бѣлыхъ бабочекъ ночи» вышла в этой орѳографiи, но этот прием пока не нашел отклика у читателя и, в частности, издатели этой книги на такой радикализм не отважились.
В те же 1960-е годы в России, пусть за рамками официальной печати, тоже зародилась поэзия, отказавшаяся от силлабо-тонической «скрытой шарманки», по выражению цитируемого нашим поэтом Арно Гольца (выше я уже называл некоторые имена). После некоторого попятного «ретромодерна» 1970-х она еще более окрепла в 1980-е (прежде всего здесь следует назвать Аркадия Драгомощенко), но это был именно «европейский выбор», во многом политический жест, в чем-то даже ленинское «ввязывание в драчку», когда идет постоянная возгонка от радикальности к скандальному эпатажу и от усложненности – к тотальному герметизму.
Главное, что было поставлено русскими собратьями Каплинского под подозрение: лирика как таковая (более конкретно: «сольная лирика» в античной терминологии), то есть допустимость говорения от первого лица, аутентичность так называемой «исповедальности», этическая оправданность метапозиции поэта, достоверность его свидетельств.
И, пожалуй, тут приходится признать: на все эти вопросы Каплинский ответил принципиально иначе. В сущности, весь двуязычный более чем пятидесятилетний творческий путь поэта – это апология лирики, доказательство ее возможности в современных условиях (то есть как части art contemporain), но не путем апелляции к традиции, а как раз обратным способом: путем разрушения и даже, можно сказать, уничтожения «шарманки» (речь не только о стихосложении) традиции и демонстрации того, какие фундаментальные органические основания имеет лирика в человеческой природе.
Менее всего это соотносимо с медитацией в том обывательско-китчевом смысле этого слова, который она приобрела сегодня (как музыка другого великого эстонца, Арво Пярта, не соотносима с псевдоминималистической равномерной пульсацией электроники).
Диалог Каплинского – ни в коем случае не выводящая (так или иначе) из экзистенциального отчаяния беседа с доброжелательно настроенным читателем (в том числе «провиденциальным»). Такая перспектива отклика была бы, опять-таки, частью индустрии досуга, пытающейся поглотить то, что когда-то получило названия «искусства», «поэзии», «высокого» (найдем им другие, более точные названия). Это диалог или с чем-то в себе, или с чем-то рядом с собой, что неотделимо от бытия и небытия и что поэт назвал инакобытием, где сосуществуют сиротство, разрушительная юношеская любовь, мучительность повседневного существования.
Я всегда опаздывал всегда опаздываюкогда я родился царя уже не былоЭстонская республика приказала долго житьяблони в дедушкином саду замерзлия не помню ни отца который был арестованкогда я был малышом – он не вернулсяни нашего сеттера Джоя сторожившего меняи мою люльку – он был застрелен немцемне помню каменного моста а лишь глыбыразбросанные взрывом по центру городатам я гулял с дедом по улицамгде вместо домов были пустые местаЭто – диалог, не дающий заглотить нас непереносимой пошлости постиндустриальной цивилизации, дающий силы в том состоянии, которое на еще одном мертвом языке носило имя «богооставленности».
Бог покинул нас – я почувствовал это так яснокогда копал землю под кустиком ревеня.Земля была черной и мокрой.Собственно, боль, испытываемая в процессе этого диалога, и есть главное содержание поэзии Каплинского, боль, не заглушаемая ни героическим приятием мироустройства, ни феноменальным умением видеть красоту, ни подвижнической способностью преодолевать отчаяние.
Страница еще белая. Тишина еще тишина.Утешительно глядеть на облака. Как всегда.Тем не менее, несмотря на всё этоСтихам нелегко появиться на свет, они во мне что-то ломают, раскалывают, уносят c собой что-то из меня.От каждого стихотворения остается шрам.Сергей ЗавьяловПереводы эстонских стихов[1]
I
«Я молюсь за реку…»
Я молюсь за рекупленницу между береговмолюсь за деньпленника между ночеймолюсь за снегпадающий с неба на грязную землюа кто будет молиться за менякогда я останусь один среди техкто никогда не пойметмоей любви*«Где истоки ветра…»
Где истоки ветрагде отдыхают облакагде рождаются волныкуда пропадает свет уходящего дняони хотели чтобы мы нашли путькоторый они сами же нам запретили искатькостер разгорится и погаснетзвезда останетсяа намостанется лишь сонон растет а я умаляюсьуже качаются желтые купальницынад моей головой*«Воины пели у костров…»
Воины пели у костровдевушки пели на пути к родникуоблака неслись над горамия поднял руки к тебечерез время и дальбудь тишинойбудь голосом или отзвукомникто не слышитслов тишинытебе осталисьстихи и сны«Из пыли и красок родятся новые бабочки…»
Из пыли и красок родятся новые бабочки а нас вернут в землю как сломанные кости на свое местогде-то в потемках в ненастье облизывают волны новорожденные острова как львица своих детенышейслова делают первые шаги в белой тьме страниц где нет ни теней ни пространства ни далипока не появится на свету что-то невиданноe новые координаты северные сиянья белые ночипадучие звезды и удары серебряных молотков сквозь глубокий сонстены касаются пальцев и сок шуршит в извечном сердце кленаведь когда-то мы должны были встретиться кровь наших предков и наших детей красные землянички протягивают руки а герани странно безмолвныдюны дюны как будто белый песок помнит журчанье райских рек одинокие муравьи заблудились в ветру на берегах зажигаются гвоздикичто то сгорает неотвратимо ночь бросается в теплые объятья сосняка и ближайшие созвездия рассыпаются в ее волосахмиг воспоминания полон шума древних водопадов морских раковин и сновидений пчел там за темными стенамиспособно ли что-нибудь начаться снова все сгорает там в глубине тускнеют угли и каменеют жилыи когда настанет время подняться пепел не отпустит наших рук и на крыльях заледенеет туман от родниковоткуда эта ребячья улыбка в королевском дворце откуда клевер четырехлепестковое счастье набрал отвагу расти здесь под высокими колоннамигде устанут даже черные письмена берез и зеленые крылья листьев прежде чем глина опять станет глиною и кровавая грязь впитается в землюнет нет никому нигде не нужна ваша история ваши победы и поражениямир просто мир медузам тетеревиным яйцам мир шелестящим муравьиным тропинкам мир райским птицам плющам мир небесам мир тебе бекаса полетмир яблокам грушам сливам абрикосам апельсинам диким розам возле хибарки железнодорожного сторожаRequiem Requiem aeternam*«Ты ты луна в чье лоно тебе пришлось опустить тьму…»
Ты ты луна в чье лоно тебе пришлось опустить тьму когда еще не было ночипомнишь ли день стоял перед новой страницей и не решался войтимарт ждал в изголовье и дул в кулак апрель вышел из морской пенывсе прочее лишь шум ветра полет сгоревших книг по небосводупомнишь ли воскресенье помнишь ли жизнь ты ведь знаешь где нас погребли приложи ухо к земле и послушайэто не поезд вдали не бронемашина не паровой молот не воздух свистящий в легких не удары пульсалуч света вернет белую бабочку из-за орбиты Плутона*«Мох глух и глубок и под колоннами пахнет медом и пчелами…»
Мох глух и глубок и под колоннами пахнет медом и пчеламикапелька покоя и радости на твоем последнем клочке землисолнце опускается по искалеченным смолистым стволам и гладит твои закрытые глазанебо безоблачно лишь вверху над головой стрижи и дятел на горелом дереве наедине с вечностьюи прежде чем лесные орхидеи успеют закончить свою повестьпреградит голод камнями солнечный свет и утащит тебя назад в кромешную тьму где будет плач и скрежет зубовКонец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Переводы Светлана Семененко (помечены звездочкой в конце стихотворения) воспроизводятся по книге: Каплинский Яан. Вечер возвращает все / Пер. с эстонского С. Семененко. Москва: Советский писатель, 1987. Переводы отредактированы автором, Игорем Котюхом, Еленой Пестеревой и Еленой Дорогавцевой, которым автор приносит свою благодарность. Остальные переводы выполнены мною. – Я. К.