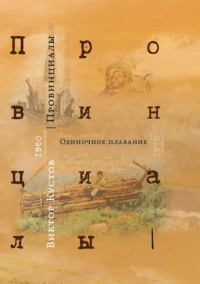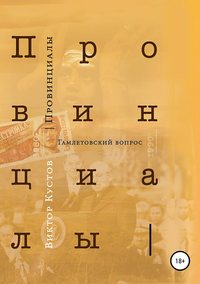Полная версия
По метеоусловиям Таймыра
– Страшно всё-таки. А я думал, что не испугаешься. – Манохин опустил левую руку. – Возьми.
Антипин качнулся и медленно пошёл к нему, стараясь не смотреть в это притягивающее отверстие, физически ощущая, как «отпечатывается» оно то в одном, то в другом месте его тела.
– Эх, начальник… – срывающимся голосом произнёс Манохин. – Жизнь моя и так загубленная…
И выстрелил.
Антипин пригнулся, уже не в силах не смотреть на покачивающийся ствол и пуля прожужжала над его головой Манохин опустил руку, разжал ладонь и носком сапога толкнул упавший наган к Антипину:
– А если ты меня убьёшь, пойдёшь ведь со смягчающими, в целях самозащиты…
– Как убийца.
Антипин поднял наган, прокрутил барабан, выбрасывая патроны в болото и, разрядив, рукояткой вниз засунул его в рюкзак. Опустился на мягкий мох, переждал черноту в глазах, стал записывать показания приборов.
Манохин молча постоял над ним, потом с пробирками спустился к речке.
…На следующий день Антипин почувствовал себя совсем худо.
Его знобило, на шеё зловеще набухал фурункул. Он прикинул по карте, где могут быть Жигайло с Сердюком, и весь день они шли с Манохиным, как туристы на экскурсии, не делая замеров. Антипин, тяжело дыша – впереди, преодолевая всё усиливающуюся слабость.
Манохин молча шёл следом, иногда что-то насвистывая или отбегая в сторону, чтобы спугнуть увлёкшихся поединком драчливых петухов. Всё чаще Антипин ложился отдыхать. Лежал, хватая ртом колючий воздух. И Манохин ложился, лениво жуя вытаявшую из-под снега морошку…
После обеда они наткнулись на следы, и Антипин отправил Манохина догонять мужиков, а сам побрёл следом. Одному идти было легче, он не тянулся из последних сил, чаще останавливался, ожидая, пока успокоится колотящееся в груди сердце. Ему было уже безразлично, закончит он в этом году диссертацию или нет. Ему был безразличен Манохин. Ему было безразлично всё, кроме упругой, кочковатой, покрытой мхами, остатками снега и водными зеркалами тундры.
Так он шёл, наверное, долго, потому что сухость во рту стала обжигающей – ведь когда Манохин уходил, он совсем не хотел пить. Антипин думал, как хорошо в пустыне, как жарко, как приятно это, когда жарко, когда прожигает насквозь…
Сначала он увидел Сердюка, стоящего на самом краю горизонта, и только потом Манохина. Сердюк был далеко и где-то вверху, а Манохин рядом и внизу, были видны только его плечи и руки, вскинутые кверху и судорожно цепляющиеся за воздух. Манохин молча скрёб пальцами по скользящему во льду мху и, увидев Антипина, сдавленно прохрипел:
– Всё. Хана мне…
И тогда Антипин догадался, что того засасывает болото, что Манохин не отдыхает, как он думал секунду назад, а медленно уходит в тягучую жижу.
– Держись! – прохрипел Антипин и, сбрасывая рюкзак, стал искать глазами хоть какой-нибудь кустик. Но вокруг безбрежным полем стлался мох.
Антипин лёг на край болота, но не достал ищущих рук Манохина.
И тогда он стащил болотные сапоги с длинными отворотами, двумя чёрными лыжами бросил их в трясину, сорвал куртку, накинул сверху, лёг на неё, чувствуя, как медленно проваливается вниз, но всё же успев втолкнуть руку в цепкие пальцы Манохина.
– Ногами не шевели, – прохрипел, сплёвывая холодную коричневую жижу, заползающую в рот, и тянул, тянул Манохина, проваливаясь сам всё больше и больше.
Лицо Манохина приближалось, и глядя в его глаза, Антипин подумал, что если и есть в человеке душа, то душа Манохина сейчас в этих огромных глазах…
Потом Манохин сумел ухватиться одной рукой за кочку и, плеснув в лицо Антипину сгусток грязи, пополз к берегу, а Антипин поехал на куртке в другую сторону – туда, где только что был Манохин. Он уже весь был в коричневой жиже, только пальцы ног всё ещё чувствовали мокрый мох и руки упирались в податливую ткань куртки там, под грязью, и их можно было выдернуть. Он их выдернул и почувствовал, как потянула его к себе ненасытная и бездушная глубь, подумал, что дело дрянь, но тут кто-то сильно дёрнул его за ноги и он окунулся в вязкую жижу…
Антипин пришёл в себя от тепла, расходящегося по телу. Жигайло прижимал к его губам фляжку и он, ещё раз глотнув, спросил:
– Манохину дали?
– Дали, – сказал Жигайло. – Вон он, сушится.
Манохин сидел между маленьким костерком и гудящим примусом и смотрел на Антипина.
– Ну как? – спросил Жигайло.
– Нормально,– кивнул Антипин.
– Тогда я пойду, помогу Сердюку, он там в километре отсюда сушняк нашёл.
– Иди.
Антипин лежал и смотрел на солнце. Красный шар скользил по горизонту, и Антипин подумал, что сейчас по метеоусловиям Таймыра все маленькие и большие порты и днём, и светлой ночью будут бесперебойно принимать борта.
Манохин перетащил его вместе со спальным мешком к костру, поставил рядом примус и сел, плотно прижавшись к его спине.
– Скажи, зачем ты полез ко мне? – хрипло спросил он.
Антипин помолчал, всё ещё думая о лётной погоде, потом ответил:
– От страха… Страшно, когда рядом кто-то умирает. Страшно…
… К следующему вечеру Сердюк и Манохин вынесли его к посёлку. Жигайло связался по рации с Норильском, самолёт обещали прислать утром. Евсеич натопил баньку, и вдвоём с Алексеем они пропарили Антипина, закутали в оленьи шкуры, и ему снилось, что он лежит на огромном раскалённом пляже и самое живительное тепло – тепло земли – множеством игл пронизывает его тело…
К самолёту он хотел идти сам, но его уложили на носилки, и Манохин с Сердюком осторожно поставили их возле кабины. Жигайло сел рядом. Рабочие всё ещё стояли, и Антипин попытался пошутить:
– Так стоя и полетите?..
– Останемся мы, – отозвался Сердюк. – Я там Вадиму всё записал, пусть деньги перечислит на книжку. С Евсеичем мы… Порыбачим…
Выздоравливайте, на следующее лето прилетайте.
– Дождёшься?
– Дождусь, – твёрдо пообещал Сердюк.
Он загремел сапожищами, а Манохин задержался, поглядывая на Жигайло, и Антипин сказал:
– Где там Евсеич? Взгляни, Вадим.
Жигайло понятливо оставил их одних.
– Ну что, Манохин, и ты остаёшься?
– Не говори, что запомнишь, – сказал Манохин. – Я тоже постараюсь скорей всё забыть. Неприятное надо забывать. Если милиции понадоблюсь, зимой здесь найти смогут.
– Живи, Манохин, – сказал Антипин. – Никому ты не нужен. Вот только если Евсеичу…
Он протянул руку, и Манохин, помедлив, протянул свою. Его ладонь, крепко сжимавшая антипинскую, подрагивала.
Поднялся в самолёт Евсеич, поставил в угол мешок вяленой рыбы, перекрестил Антипина.
– Не верующий, но на всякий случай.
Глаза у него заблестели, и Антипин подумал, что на следующее лето он обязательно увезёт Евсеича с собой в отпуск, на лечебные грязи.
Зашли лётчики, отобедовшие в колхозной столовой, зашумели, погнали прочь провожающих, и командир спросил Антипина:
– Ну как, летим?
– Летим, – сказал Антипин. – Как там, по метеоусловиям?
– Всё нормально, – ответил тот. – Круглые сутки солнце. Лето.
Антипин приподнялся на носилках, Вадим Жигайло подложил ему под спину рюкзак, и он увидел в иллюминаторе тёмную рябь озера, покачивающиеся баркасы и фигурки людей. Он увидел тундру, освещённую ярким солнцем, с блестящими зеркалами нерастаявших снегов…
Аудитория
Почему именно ЭТА?..
Не просторная и светлая, в которой артистично-элегантный кандидат искусствоведения Корнилов остроумно и раскованно читал курс диалектического материализма; не уютный кабинет рядом с кафедрой, заставленный приборами и конструкциями, с отрешённо-колоритной фигурой страстного курильщика Селезнёва (он умер спустя год после выпуска нашего курса, а ему было всего сорок) и не любая из множества других аудиторий, а именно эта, узкая и высокая, в которую никогда не заглядывало солнце, разместившаяся между вторым и третьим этажами и с двумя, с разных этажей, дверьми, со скамьями, нависающими одна над другой так, что макушка нижесидящего сокурсника вызывала необъяснимую жалость, а преподаватель, входящий в нижнюю дверь и застывающий у чёрного квадрата доски, в проекции походил на экранного Чаплина.
Именно эта аудитория, в которой каждый всегда занимал одно и то же, облюбованное с первой лекции, место: впереди, чуть возвышаясь над преподавателем, но ещё находясь в поле его зрения, – низенький увалень Иванов-маленький; будущий краснодипломник Митрофанов с бросающимися в глаза залысинами и очкасто-занудливая Пенкина; во втором ряду с краю примостился краснолицый Иванов-большой, через промежуток от него – две подружки, Сёмкина и Голубец, обожавшие танцы и сплетни; потом – независимый Горностаев… Был и ещё кто-то дальше, но кто, не помню… А чуть выше уже видна Оля, её золотые волосы отражали волны взглядов занимавших самый верхний ряд Мишани, Женьки Сухорукова, Димки Слепня и…
Одним словом, почему именно эта аудитория стала единственноым местом, которое смогло однажды собрать разлетевшиеся по свету души бывших однокурсников, чтобы они – независимо от их новых масштабов – заняли выбранные некогда в юности по наитию места: те самые, на которых каждому было удобно заниматься тем, чем хотелось заниматься тогда, в юности?..
Я не знаю…
Ни Корнилов, ни Селезнёв не читали в ней лекции, но даже если бы и читали, они, я уверен, были бы неотличимы в рядах густых шевелюр или проплешин, искусственных завитушек или надменной гладкости других преподавателей…
…Входить и выходить, пригнувшись, во время лекции в дверь третьего этажа, посмеиваясь над преподавателем – это ли не свобода!
И не потому ли она снится и помнится?!
Вот и сейчас, только закрыл глаза, а уже бреду по длинным полутёмным коридорам, спотыкаюсь о выбоинки лестничного марша (Господи, неужели руки так и не дошли за столько лет?), замираю посередине марша (а может, войти в нижнюю дверь, всё-таки возраст и положение?), но плюю на условности и, грохоча каблуками, врываюсь в узкую щель двери: «Привет, вот он я…»
Ох, это чудо сновидения, способного многомерность времени и многогранность жизни сконцентрировать в одной точки…
Я произнёс бодрое «Привет…» и плюхнулся на своё место, тут же у двери, упёршись в Мишаню, и тот в ответ поддел меня локтем и уставился на задравшего голову преподавателя. Иванов-маленький развернулся, багровея, и зануда Пенкина прожгла линзами очков. Даже Иванов-большой выразил испуганный укор. Только Оля так же продолжала смотрела во двор за грязными стёклами окон.
– Здорово, – сказал Мишаня, когда аудиторию вновь заполнили монотонные звуковые волны лекции. – Как там в общаге?
– Ночевать дома надо, – буркнул я.
А Мишаня, словно ждал этого, засвистел на ухо, какую «коровку» он отхватил и как она его обнимала и, одним словом, все соки выжала, и ему бы, Мишане, сейчас отдыхать после трудов праведных, а не сидеть здесь…
Он рассказывал с сальностями, побитое оспинками вытянутое лицо его самодовольно расплывалось, он получал наслаждение от воспоминаний о прошедшей ночи, в то время как я, видевший несколько раз его «коровок», следил за рассказом с брезгливым ужасом.
Вдруг он упёрся мне в бок чем-то твёрдым, я опустил глаза и отодвинулся: под правой лопаткой Мишани торчал нож…
Я уставился на Иванова-большого, изучая его серенький мятый пиджачишко, который тот носил с первого курса, – подумал об этом ничего не значащем факте, лишь бы чем-то заполнить возникший вакуум непонимания.
Мы никогда не замечали, кто в чём ходил, пижонство было делом личным, а Иванов-большой приехал из глуши, и, похоже, в этой своей глуши он был лидером самого консервативного крыла. По сессионным порогам он проходил с тупорылой настойчивостью трактора, высиживая, выжимая, выдавливая «уды», девчонок не замечал и, как мне кажется, боялся. По вечерам после лекций и обязательных занятий в читальном зале усаживался в комнате у окна, и, положив голову на старую гармонь, выводил тягучие непонятные мелодии, пока в стену не начинали стучать соседи. Сенсацией была его женитьба, хотя утверждать, что наличествовал акт бракосочетания, я не могу, мы увидели Иванова-большого с его любимой на прощальном банкете, это было подобно грозе зимой: шеренги столов качнулись в сторону длинноносой и плоской, с уродливо выпирающим животом, женщины, сидевшей рядом с лоснящимся гордым Ивановым-большим, но этот импульс любопытства был столь же краток, сколь и известие о том, что Иванов-большой добровольно выбрал самое неудачное распределение, хотя имел шанс на удачу: к пятому курсу ежедневные сидения в читальном зале принесли свои плоды – он заканчивал институт без троек. Мы лицемерно выпили за молодых и тут же о них забыли и не вспоминали до самого конца, не заметив, когда и как они ушли…
Как же его отчество, подумал я и стал перебирать, разглядывая сутулую серую спину с блёстками перхоти, пока не остановился на самом подходящем, как мне показалось: Виктор Георгиевич. Да, именно Виктор Георгиевич, мы же знакомились заново, совсем недавно, в министерстве…
…Мишаня перегнулся, вытянул жилистую шею в сторону воркующей Сёмкиной, поцокал языком, и та жеманно отмахнулась: – дурак, повела плечиками так, что под кофточкой приоткрылась ложбинка, и Мишаня заржал, хлопнул себя широкой ладошкой по губам, пригнувшись, побежал к двери, и сколько я ни вглядывался, ножа не увидел, а Сёмкина опять повернулась… Красивая, чуть полноватая дама с гордо вскинутой головой, одетая в модное платье, – прильнула плечом к спокойному высокому подполковнику, оглядела, словно оценивая, наши замызганные робы (и у меня не чище, чем у работяг, с начала аварии – в гуще дел).
– Выручай, полковник, – перекричал я рёв дизелей, авансом выдавая лишнюю звёздочку на погонах, размазывая по лицу маслянистую чёрную жижу и глядя на Семкину. – По-соседски подкинь техники…
Тот бросил взгляд, словно сфотографировал разорванную буровую, и бьющий фонтан, и оцепление, и застывшие бульдозеры, и застрявшие в болоте машины, вскинул командирские часы, и в эту минуту лицо Сёмкиной вдруг стало молодеть, глаза жалостливо сузились (она почему-то всегда жалела меня), она назвала моё имя и затараторила, хотя не было ни минуты времени, чтобы выслушивать её бредни, её восторги, её эмоции, воспоминания. Я перебил:
– Вы ошиблись… Так как же, командир?
И уже получив согласие, отходя, увидел прильнувшее к стеклу кабинки лицо Сёмкиной с раскрытым от удивления ртом…
…Что за странное сновидение…
Я ведь вошёл в аудиторию, поздоровался, опустился на своё привычное место, я вот он, ощущаемый, реальный, из плоти и крови, и эта скамья, выдраенная тощими студенческими задами, – сама реальность, и это пространство аудитории… прошло столько лет, и если каким-то чудом кто и появится здесь, он должен быть в соответствующем возрасте… И не надо…
…Оля повернула голову, золото её волос опалило моё лицо… Ну повернись же, молил я, повернись, я хочу увидеть, какой ты стала, слышишь, я хочу…
…Димка передвинул листок с расчерченным квадратом, я надставил свое «с», и теперь к его «соколу» добавилось моё «скол»… скол породы, срез времени – это, в принципе, одна суть: время и материя… Теперь уже и Голубец вертелась юлой, поглядывая в нашу сторону, закрывая своей тенью золотой свет, который принадлежал только мне…
…Подполковник тогда нас здорово выручил, его техника явилась, как является резерв Верховного главнокомандующего в критическую минуту, и мы победили. По-фронтовому отпивая из фляжки, пущенной по кругу, чувствуя великое родство, стояли с ним у картины разрухи и созидания, а поодаль виднелась машина с Сёмкиной, всё ещё не верящей в то, что я не я, и я уже открыл рот, чтобы признаться, но помешал вертолёт, испуганное начальство, дела…
Господи, что же я блуждаю в потёмках, всё ясно как день: я попал в аудиторию, где сидят наши дети, похожие как две капли воды на нас самих… И никакого возврата в прошлое, время необратимо, и… А нож?..
– Тугодум, – прошипел Димка, ткнул ручкой в листок, прочертил невидимую траекторию. – Локон, пять букв…
Почему локон, Димка, это ведь плохое слово, вернее, его материализация в твоей бывшей жене. Я ведь тебе писал ещё тогда, когда ты, потеряв голову, увёз её из южного городка в свою забайкальскую степь, я предупреждал: это это не тот человек, что тебе нужен, Димка, остановись, а ты смеялся, ты упрекал меня в зависти и не верил, не хотел верить. Но долго ли ты был счастлив? Миг?.. И вечность страдаешь… Ты и по сей день хранишь её локон, – женщины, давно забывшей тебя, закружившейся в жизни праздной бабочкой и не пожелавшей даже родить тебе, смеявшейся, когда ты стоял перед ней на коленях, ты, Димка Слепнёв, тонувший, горевший, умиравший от укуса змеи, раненый в мирное время, умеющий управлять тысячами людей и нравиться им, понимающий их как никто другой, – тогда ты ничего не понял… Я всё хочу написать тебе об этом, но отделываюсь короткими телефонными звонками, традиционным «как дела?» и довольствуюсь твоим столь же традиционным «в порядке».
Завтра же возьму билет, и мы наконец-то поговорим по-людски…
…Нас разбросало по жизни. Вечная и естественная судьба всех поколений до нас и после нас. Но вот в этой аудитории разве допустимы были метаморфозы?.. Нас учили, и мы впитывали, что нам подвластна земная кора, она полна загадок и таинств, но мы-то все были как на ладони и жили не в прошлом и будущем, мы жили в материалистическом настоящем. Так откуда тогда – из настоящего, прошлого, будущего? – пятидесятилетний сморщенный и молчаливо соглашающийся претендент в кандидаты наук Митрофанов, которого при мне распекал директор НИИ?.. Откуда одинокая Пенкина, мужененавистница, стоически выдерживающая жестокие выходки её студентов и плакавшая в своей пустой огромной квартире, куда я отправился в один из командировочных вечеров, случайно наткнувшись на неё в нашей (вот этой межэтажной) аудитории, исповедовавшись и покаявшись ей в собственной жестокости тогда, и сейчас, и в будущем…
Да отпустятся грехи наши…
Да простится Горностаеву чванство, пожалеем его, он тащит эту нелёгкую ношу за всех нас…
Иванов-маленький воровато оглянулся, кося глазом на преподавателя, метнул бумажный шарик в Олю, и я напрягся, впился глазами в её светлый профиль, но она небрежно смахнула записку на пол, под ноги преподавателя, и Иванов-маленький неожиданно быстро выкатился из своего ряда, схватил записку, замер на своём месте в обычной позе полного внимания, и повернувшийся Корнилов-Селезнёв ничего не заметил или сделал вид, что не заметил… Как не замечал наш капитан, командир роты на учебных сборах, частых отлучек Иванова-маленького домой (лагерь был на окраине города, где он жил), и долго мы ломали голову, пока Мишаня не просветил. Он поднял нас за полночь, подгоняя, сонных и злых, пинками, заставил кружить по лесу, пока не вывел к маленькому озеру, к костру, подле которого мы и увидели нашего капитана, Иванова-маленького, двух развесёлых женщин и скатерть-самобранку, которая в нашей курсантской жизни казалась верхом мечтаний.
Женька облизнул губы, прошептал:
– Стырим пожрать, зря, что ли, тащились…
Димка отвернулся, потянул меня за гимнастёрку:
– Пошли, что вы как дети…
– Ну, лиса, – прошипел Мишаня, – этот при всех режимах выживет.
И, подобрав сосновую шишку, запустил ею в Иванова-маленького.
Шишка попала капитану в грудь, он вскочил, шагнул в нашу сторону, и я услышал неожиданно злой шёпот Мишани.
– Я первым ударю. Морды не засветите.
Но ни подраться, ни поесть нам не удалось: затрещали сучья, и в свет костра вышел маленький круглый человечек, поразительно похожий на Иванова-маленького. Только ещё меньше ростом и гораздо шире. Он опустил ведро, и капитан, женщины, наш Колобок ринулись к нему, выхватывая за жабры бьющихся лещей. Димка потянул всё рвущегося вперёд Мишаню. Женька Сухоруков тогда первый раз застонал от боли, которая позже, в последние дни его жизни уже не ослабевала ни на минуту, но он крепился, пытался улыбаться, планировал, что сделает, когда выздоровеет, успокаивал жену и благодарил за то, что я не забыл, нашёл время приехать…
– Женька! – Я упёрся лбом в Женькин лоб, ощущая его тепло и даже слыша, как в его виске стучит кровь. – Рванём после лекции в кино?
– Куда?..
– А куда-нибудь… Только… Ольгу пригласи, а?
Я уткнулся в листок, выискивая слово, в котором было бы побольше букв, но всё-таки не удержался, взглянул на красивое и спокойное лицо Сухорукова. Я завидовал ему и удивлялся. О любой из его знакомых девушек мы могли мечтать, но ни одну из них он не выделял, не переживал слёзы очередного признания-разрыва, он верил, что будет счастлив, и был счастлив…
– Колобок, – произнёс я и тут же опомнился: не прозвучит ли оскорблением студенческое прозвище спустя столько лет? Кто знает, кем и каким стал Иванов-маленький, настырно пытающийся перейти мне дорогу и объявивший ещё на первом курсе, что Оля обязательно будет его женщиной…
Записочная эпидемия стала разрастаться – верный признак, что близится к концу последняя лекция. Из-под руки, не оборачиваясь, выстрелила бумажным шариком Наташка Голубец, и её шарик попал мне в щёку, я медленно развернул его, выражая полное презрение к этой игре и стараясь не упустить из поля зрения Олю.
Наташка приглашала в театр…
Я пошёл тогда в театр, хотя сначала отказался – вместе с Женькой и Олей мы собирались в кино. Я волновался, ожидая Олю. А Женька лежал на кровати, закинув руки за голову, и размышлял вслух, к кому бы из девочек сегодня сходить на ужин, когда она вошла. Я слишком суетился в молодости, по-видимому из-за какого-нибудь комплекса, и слишком торопил события. И когда они ушли вдвоём, Женька с выражением полного непонимания, а Оля радостно (так мне показалось), я проклял свою трусость, ревность, свою лжеболезнь и ворвался к Наташке без стука, застав её торчащей в купальнике перед зеркалом, и даже не смутился от её визга, а лишь отвернулся к стене, ожидая, пока она оденется. И мы пошли в театр, А ты ведь красива, Наташа, Наталья Гавриловна Проскурина…
И почему раньше я этого не замечал?
Или, может быть, женщины становятся красивее с возрастом?
Только с чьим возрастом, моим?..
После театра мы с тобой целовались, и ты удивлялась моей смелости, ты была счастлива, ты меня любила… И тогда, и потом… Ты так меня любила, что я сбежал от тебя сразу же после нашей свадьбы, а ты очень хотела, чтобы у тебя был мой ребёнок… Но у нас ничего бы не получилось, даже если бы он появился… Я уехал тогда искать Олю, я поехал увозить её от мужа, но так и не нашёл, не увёз…
У тебя хороший муж, ты счастлива, твой сын будет прекрасным геологом, это я тебе говорю, начальник управления, научившийся за эти годы отделять зёрна от плевел… На старости лет мы с тобой ещё порадуемся внукам, неторопливо погуляем по скверику, и, может быть, тогда ты мне расскажешь об Оле, ведь у меня всё равно не будет сил, чтобы полететь к ней…
Но вот я сегодняшний, – я люблю тебя ту, гладко причёсанную и говорливую, хотя ты не можешь соперничать с Олей…
Влетел Мишаня, плюхнулся рядом на скамью, больно задев бок чем-то твёрдым, и я вспомнил о ноже… Об этом самодельном окровавленном ноже, оборвавшем жизнь самого бесшабашного из нас.
– Старичок, – прошептал Мишаня, – ключ у тебя? Давай, подамся я спать.
Я протянул ключ.
Он подкинул его на ладони, оглядел аудиторию и во весь рост вышел, уже не таясь.
…Вот и тогда, как мне рассказывали, он, за четыре часа до этого бродивший по хрустящим якутским снегам и теперь ошалевший от весенних запахов, удачливый северянин в шубе и унтах не по сезону, с «дипломатом», в котором лежало обещание красивой жизни, о которой он всегда мечтал, шёл через сквер перед аэровокзалом, к своей очередной «коровке» (он и при людях называл их так, но они любили его, как это ни парадоксально), говорят, шёл, чтобы сказать наконец, что увезёт единственную достойную его (для этого и отпросился на недельку), шёл по городу, где прошла его юность, не боясь ничего, потому что всё здесь было родным и безопасным, и когда нож вошёл ему в спину, он сразу даже не понял, что это, и бросил, не оборачиваясь: «Кто там шутить вздумал». А когда рванули «дипломат» Мишаня, уже зверея от боли, развернулся, выкинул вперёд руку, натруженную двухсоткилограмовыми буровыми «свечами», подцепил тонкую шею убийцы, и, падая, подмял под себя, так что подъехавшие милиционеры прежде бросились спасать того, пока не увидели нож…
И вот ты, Мишаня, заставивший мать похоронить тебя, уходишь спать.
Может быть, ты жив не только в этой аудитории, но и за пределами её тайны…
Но ты ушёл, а я остался.
И Женька ушёл, он всегда следом за тобой выходил из аудитории, хотя никогда не торопился, как ты, но почему-то всегда получалось именно так.
Потом выходила…
Неужели в этом тоже есть закономерность?..
Нет, это чушь, это мистика, а мы реалисты, и всё в прошлом, и в настоящем реально, как эти серые стены и старая арка, как реальна моя Валентина, которую я нисколько не ревную к Женьке, я хожу к нему на могилу вместе с ней, и наши сыновья, его и мои, – это мои дети, и я люблю его так же, как любила Валентина. Потому что ревновать глупо и стыдно.