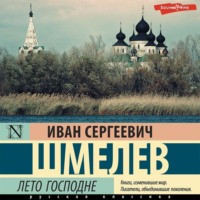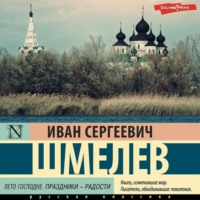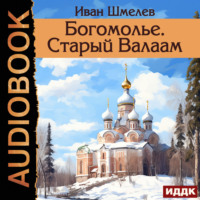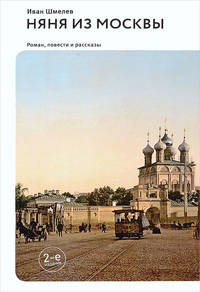Полная версия
Солнце мертвых (сборник)
Доктор развел руками. Да: и вот! Смотрит на нас калека-дачка на пустыре, с дохлой клячей под сенью вонючих «уксусных» деревьев. Глядит-нюхает из-за уголка тощая Белка, ждет. Идет за пустырем дядя Андрей в новом парусиновом костюме – ободрал недавно на дачке Тихая Пристань складные кресла полковничьи и теперь разгуливает без дела, высматривает новую «работу».
– И все это вымрет… – тоном пророка говорит доктор. – И они уже умирают. И этот Андрей кончится. Мой сосед Григорий Одарюк тоже кончится… и Андрей Кривой с машковцевых виноградников… Они уже все обработали, а не чуют… Увидите. Убьют и меня, возможно. Еще считают за богача… Когда наступит зима… увидите результаты. Опыт и их захватит. Вчера умер от голода тихий работящий маляр… когда-то у меня красил… А на берегу красноармейцы избили сумасшедшего Прокофия, сапожника… Ходил по берегу и пел «Боже, царя храни»! Избили голодного и больного, своего брата… Опыт! Я и сам теперь опыт делаю… Сухим горохом питаюсь.
Он шарит в кармане своего лондонского пиджака и бросает горошину приглядывающейся к нему Жаднюхе.
– Этим самым. У меня фунтов десять имеется, в собачьей конуре припрятал, не изъяли «излишки». И вот – по горсточке в день. Во рту катаю. Зубы у меня плохи совсем, а челюсти у меня украли при обыске, вынули из стакана, – золотая была пластинка! Покатаю, обмякнет – и проглочу. Ничего, двенадцатый день сегодня. И еще – миндаль горький. Жарю. Обратите внимание, очень важно. Амигдалин улетучивается, яд-то самый. Тридцать штук в день теперь могу принимать. Это, пожалуй, самый безболезненный путь – «от помойки в ничто»! Пульс ускоряется, сердце нарабатывается быстрей, и…
Доктор запнулся, уставил глаза, рот разинул и смотрит в ужасе…
– Мы… распадаемся на глазах… и не сознаем! Да вы вглядитесь, вглядитесь… Умремте, скорей умремте… ведь ужасно теперь… теперь!.. сойти с ума! Ведь тогда мы не сумеем уйти… может не прийти в голову уйти! Будем живыми лежать в могиле, как теперь Прокофий!..
На меня это никак не действует. Я проверяю себя, пытаюсь постигнуть, как я сойду с ума, как они будут бить тяжелыми кулаками… Нет, не действует. Почему?
– Доктор, чем бы мне… кур поддержать?
– Ку-ур? Как – поддержать? Зачем – поддержать? Сжарить и съесть! сожрать! У вас есть даже индюшка?! Почему же ее еще никто не убил? Это живой нонсенс! Надо все сожрать и – уйти. Вчера я «опыт» тоже делал… Я собрал и сжег все фотографии и все письма. И – ничего. Как будто не было у меня ничего и никогда. Так, чья-то праздная мысль и выдумка… Понимаете, мы приближаемся к величайшему откровению, быть может… Быть может, в действительности ни-ничего нет, а так, случайная мысль, для нее самой облекающаяся на миг в доктора Михаила?! А тогда все муки и провалы наши, и все гнусности – только сон! Сон-то, как материя, не суть ведь?! И мы не суть…
Он смотрит неподвижно, как уже не сущий. И улыбается своей мысли.
– Мы теперь можем создать новую философию реальной ирреальности! новую религию «небытия помойного»… когда кошмары переходят в действительность, и мы так сживаемся с ними, что былое нам кажется сном. Нет, это невыразимо! Да, куры… вы спрашивали… У меня была одна курица, любимица Натальи Семеновны… Я думал было заклать ее, как жертву, и положить с покойницей в шкап. Но… бросил эту игривую мысль. Горошком кормил. Подойдет к балкончику… – последнее время она мало ходила, сидела больше, нахохлившись, – спрошу: «Ну, что, Галочка, чувствуешь опыт-то?» А она только головкой повертывает. И я сейчас ей пару горошин. На ночь в комнаты запирал, понятно. И вот – самоубийством покончила!
– Да что вы?!
– Отравилась. Весь горький миндаль поела. Приготовил прожаривать, а она утром проснулась раньше меня, нашла и… в страшных конвульсиях! Ну, пошел я. У вас есть горький? Ну, так имейте в виду… если штук сотню сразу… лучше, конечно, в толченом виде – сеанс может успешно кончиться. Абсолютно. А сейчас надо проведать горемыку нашу, – в Париже жила когда-то! Видела сон прекрасный! А слышали новость? В Бахчисарае татарин жену посолил и съел! Какой же отсюда вывод? Значит, Баба-Яга завелась…
– Баба-Яга?! Да. Я сам только подумал.
– Вот видите. Значит, сказка. А раз уже наступила сказка, жизнь уже кончилась, и теперь ничего не страшно. Мы – последние атомы прозаической, трезвой мысли. Все – в прошлом, и мы уже лишние. А это, – показал он на горы, – это только так кажется.
Такие бывают человечьи разговоры.
Он уходит к соседке. У него под мышкой мешочек. Над ним белый широкий зонт, весь в заплатках. Идет – колышется. Навстречу ему – голосок Ляли:
– Михайла Василич в гости!
И Ляля, и Вова прыгают перед ним, заглядывают на мешочек. Пшеничка или, может быть, кукуруза? И не знают еще, что там самое для них вкусное, что так любят дети и голуби: последняя горсть гороха.
А я долго еще сижу на краю Виноградной балки, смотрю на сказку. На радужном опахале хвоста, на чудесном своем экране, павлин танцует у дачки, у дохлой Лярвы. У ее головы недвижной, распластавшись на брюхе, тянется-вьется Белка, вывертывая морду, будто целует Лярву. Доносится до меня урчанье и влажный хруст… Она выгрызает у Лярвы язык и губы! Так скоро? Ведь только сейчас ходила по пустырю кляча… Вот так миленькое «трио»! Жаднюха на меня смотрит. Что, горошку? Я беру ее на руки, разглядываю ее лапки… Что смотришь? Вот начну тебя с лапки… что?! Теперь все можно. Она уснула, так скоро, доверчиво уснула…
Я долго еще сижу на краю балки, смотрю на леса в горах. Веки мои устали, глаза не видят. Сплю и не сплю, сижу. Поторкивает-трещит, шумят шумы, шумит дремучее… Погасает солнце. Шумит водопадами в голове… Сорвешься туда, к камням… А, не страшно. Теперь ничего не страшно. Теперь все – сказка. Баба-Яга в горах…
Волчье логово
В Глубокую балку пойти – за топливом?..
Там стены – глубокой чашей, небо там – сине-сине. Кусты да камни. Солнечный зной курится, дрожит-млеет. Спят тысячелетние пни дубов, заваленные камнями, – во сне последнем. Я бужу их своей мотыгой. С гулом и свистом летят их проснувшиеся куски – солнце: будут светить зимою. Дремлет на солнцепеке каменная змея – желтобрюх, заслышит шаги – поведет сонным глазом – и завернется: знает меня, привык. Я побаюкаю его тихим свистом. А он все дремлет, поставив на стражу глаз в золотом кольчике. Что и я – порожденье того же солнца. Такой же нищий. Всегда – один. А вот и она, ящерка-каменка, – вышурхнет, глянет и – обомлеет. От страха? От удивленья на Божий мир? Застынет стрелкой и пучит бусинки глаз – икринки. Цикады трясут и трясут над ухом ржавой, немолчной гремью – жаркое сердце балки. Вот – оборвут, и глохнешь от тишины, кружится голова с умолчья.
Сил не хватит дойти до балки: день уже отнял силы.
Пень, иззубренный топором… Я знаю его историю.
Это было полной весной, когда цвели глицинии по веранде и черный дрозд на верхушке старого миндаля тихо, нежно насвистывал вечернюю песенку нашему новоселью. Приветно глядело все: розовые кусты шиповника по ограде, белые стены домика с зелеными ставеньками-ушами; павлин, пробирающийся под кедром – к ночи, синий дымок над кухней – первого ужина… уже ночные, синею мглою охваченные горы, намекающие душе: «Отныне… вместе?»
Теперь будут они следить за тихою жизнью нашей, впускать и укрывать солнце, шуметь дождями. Золотые и синие – солнечные и ночные – будут глядеть на нас до светлого конца жизни…
В тот вечер робких надежд я тихо ходил по саду. Мои деревья! Это – старый миндаль… обгрызли его кору, но глядит еще бодро и весь осыпан. А это… персик? Его донимают ветры… – ну, ничего, подвяжем. А вот и дуб. Ты долго будешь расти, долго-долго… Увидишь старого человека, меня-другого… он сядет здесь, – поставить скамейку надо, – и погасающими глазами будет смотреть на сад, новый всегда, на неменяющуюся звезду над Бабуганом…
Тогда я нашел тебя, товарищ моей работы, дубовый пень. Ты валялся под кипарисами, в полутьме, в затишье. Я хозяйственно оглядел тебя, обласкал взглядом – я так был счастлив в тот вечер! Я тебя обнял и выкатил на свет Божий – радуйся и ты с нами, будем работать вместе. Слышал ли ты, старик, как домовито-детски мы толковали, куда бы тебя поставить… как ты будешь лежать года, как хорошо посидеть на тебе вечерком, выкурить папироску, глядеть и глядеть на море, мечтать по далям и крепко верить, что не порвется нить нашей жизни, потянет другую, родную, нить… а ты все будешь благодушным свидетелем новых жизней… Теперь ничего не будет. Ты весь иссечен, горы колючек изрублены на тебе, горы мыслей порублены на тебе, сгорели… Сожгу и тебя, клиньями расколю и сожгу – неродившуюся надежду.
Я разглядываю рубцы на пне – по ним ползают муравьи. Постукивают ворота?..
…Татарские кони ржут, постукивают в ворота – будет прогулка в горы. Цикады бьют погремушками, день жаркий-жаркий, обвисли груши в моем саду, персики и черешни осыпали все деревья. Это же не мои деревья! И веранда с колоннами, с занавесками из шумящего хрусталя цветного – это же не моя веранда… Надо спешить – будет прогулка в горы… Но куда же девались все?! Лошади давно ждут, нетерпеливо постукивают в ворота… Я хожу и зову, ищу… Это же не моя веранда, сверкающая огнями!.. Я ищу и зову в тревоге, пробегаю в огромных залах. Это не мои комнаты… Мои комнаты были проще: ласковые, покойные… Не этот холодный свет, и черешни не лезли в окна… Я хожу и хожу по залам… Где-то тут мои комнаты…
Опять я вижу рубцы на пне, бегают муравьи. Осматриваюсь слипающимися глазами. Ну, вот и сад, и мои деревья… Это же сон мне снился, минутный сон… Вот и наш тихий домик. Спешить никуда не надо. Опять Тамарка громыхает воротами.
Дико кричит павлин – что-то его вспугнуло. Что такое? Что еще может теперь случиться?..
Я слышу воющий голос – к морю…
– Ой, люди добры-и-и… гляньете!.. Гляньте же, люди добры-и!..
Это в «Профессорском Уголке», внизу.
«Уголок» давно мертвый. Не звонят по пансионам колокола, не сзывают гостей на завтраки, на обеды: сорвали колокола, сменяли на спирт подвальный. Пойдут колокола в дело – в пули: много еще цельных голов осталось. Не доносит повечеру трели отдыхающей певицы, трио Чайковского: умолкли певицы, музыканты, раскрали песни Чайковского, треплются по ларям базарным.
Внизу голоса ревут – там еще обитает кто-то! Берлоги еще остались.
– Ой, люди добры-и-и…
Нет ни людей, ни добрых.
«Золотая роза» розовеет еще стенами. А вот и «Вилла Марина», и «Вилла Анна»… но там теперь обитают совки, мелкие совки-сплюшки: кричат по ночам тоскливо: «Сплю-у… сплю-у…» Спите, не потревожат. Вон шафранного «Линдена» корпуса, когда-то в розовых олеандрах, в зеленых кадочках, на усыпанной гравием площадке. Прощай, олеандровая роща! Выдрали ее садовники-трудолюбцы из кадушек, пожгли кадушки. Старик адмирал, хозяин, поглядывал оттуда в трубу на море. Выстроил себе новый корабль – на суше, прохаживался с сигарой по балкону в сиянии белоснежного кителя, в свежем сверканье брюк, в белых, бесшумных туфлях, просоленный морями, белобородый. Променял штормы на сладкий штиль, праздный кортик – на трудовой секатор, каткую палубу – на крепкие, в гравии, дорожки. Вывел розовые стены из олеандров, лиловые – из глициний, сады персика и диканки… Разбили его трубу, и ушел адмирал под землю: там-то уж совсем тихо. Встал на его «корабль» огромный Коряк – дрогаль, зацепился с семьей, с коровой и ждет упорно: отойдет ему дом – дворец с виноградниками и садами – за великие труды жизни: возил адмирала на таратайке в город! Сторожит пустоту – усадьбу да помаленьку выламывает рамы.
Внизу голоса растут. По балке доходит четко – воющий бабий голос:
– Да лю-ди… добрые!.. да вы ж гляньте!..
– Усе кишки вымотаю с тебе… за мою Рябку!..
Это – Коряка голос, рык сиплый.
– Да вы ж толичко гляньте… лю-ди добрые… хозяина моего забивает!..
– Мя… со мое подай… из глотки вырву! Зараз сказывай, куда ховали!.. утрибку, гадюки, лопали… с моей Рябки!..
– Побей мене, Боже… да усю неделю в Ялтах крутился… да вы ж перво дознайте у сосидий… Дядя Степан, да ваша Рябка и близко не доступала! За чого ж вы стараго чоловика забиваете?!
Человека забивают? И этот воющий голос – голос человечий? и рык-зык этот?!
– Шку-ру, пес… мя… со мое подай! Шшо твой выблядок у мылыцыи ходит… да я сам утрудящий… Буржуев поубивали, теперь своего брата губите!.. Я за свою Рябку… дьявола лютые!..
– Да я… зараз в камытет самый, рылюцивонный… як вы генераловы сундуки ховалы…
– А тебе… шо? ма-ло?! шшо нэ подавылась?! Мало, сука, добрых людей повыдавала, чужое добро ховала, на базар таскала?! Да я твой камытет этот… одна шайка! Ду-шу вытрясу… мясо мое подай!
– Чего ж вы не заступляетесь… люди добрыи?!
Я слышу тупой удар, будто кинули что об землю.
– У-би… ил… живого чоловика убил… люди Божьи!..
– Насмерть убью – не отвечу! У мене дети малыи…
По горкам шевелятся – выползают букашки-люди. И там, и там. Где-то в норах таились. Все глядят на площадку под «Линдена» – пансионом с холмов – на сцену, как в греческом театре. Прикрыли глаза от солнца. Далеко внизу, на узкой площадке, в балке, прилепилась мазанка: синий дымок вьется над белой хаткой. Во дворике копошатся – люди не люди – мошки: двое крутятся на земле; синее пятнышко бегает, палкой машет.
С Вербиной горки бегут ребята, орут:
– Под Линденом убивают! Ганька, гляди Тамарку!..
Кричит Ганька:
– Хочу… как убива-ют!..
Выглянули и соседи. Лялин голосок точит:
– Это Степан Коряк, мамочка… в белой рубашке… ногой в живот прямо, мамочка… коленком!..
– Ля-личка, не надо! Боже, какие звери… – взывает старая барыня. – Ради Бога, Ляличка… уходи, не надо… Няня, да что такое?..
– Да что… Глазкова старика Коряк за корову убивает… – доходит из-под горы нянькин голос.
Она спустилась под упорную стенку, чтобы лучше видеть.
– Так и надоть, слободу какую взяли! Полон-полон дом натаскали, всего-всего… Каждый Божий день у Маришки и барашка, и сало, и хлеба вдосталь, и вино не переводилось… мало! чужую корову зарезали! Гляди-гляди, как бьет-то! а? Насмерть теперь забьет!
Смотрит, несчастная, и не чует, что ждет ее. Запутывается там узел и ее жалкой жизни: кровь крови ищет.
А на театре – хрипу и визгу больше, удары чаще.
– Люди добрые… заступитесь!..
– Печенки вырву!.. скажешь, вырод гадючий!.. мясо куды девал!.. мя… со-о?!
– Эх, сыновья-то в городе… они б ему доказали! До-кажут!
– Самый большевик был, как на чужое… а самого тронули… как разоряется!
– Зачем… Коряк за свое добро бьет! Моду какую взяли, хоть не води коровы. В покои уж стали ставить, с топором ночуют!
– Вот они, буржуи окаянные… до чего людей довели! Жили все тихо-мирно, на вот… завоевались!
На театре дело идет к развязке. Рык глуше, словно перегрызают горло:
– Ку… ды… мя… со…
– Ой, побегу, мамочка!..
С холмов воют:
– Бей его, Коряк, добивай!..
– Как так – бей?! Доказать сперва надо! Бей… Много вас, бителев!
– Он вон, в Ялтах был столько-то ден, баба его доказала!
– Звери, а не люди… Ляличка, ступай! ступай-ступай, нечего тебе слушать…
– Мамочка, я хочу…
И доктор, под зонтиком, тоже смотрит из-под руки, потряхивает бородкой. Кричит в пространство:
– Трагедия… под горами! Хе-хе!.. Борьба титанов!.. волки грызут друг дружку! Валяйте, друзья мои… валяйте апо-феоз культуры! До скорого свиданья…
Уходит доктор к миндальным своим садам – «садам миндальным».
Лезет из балки другой сын нянькин, голенастый подросток Яшка, – ездит уже с рыбаками в море. Кричит в задоре:
– Раз Коряк взялся – шабаш! Прихватил за грудки… да как его оземь… раз! А старик живуч!
– Уйдите, уйдите все! не могу… не могу – не могу… – кричит истерично старая барыня, зажимая уши.
Вскрикнула-всполошила Ляля:
– Ястреб!.. ястреб!! Айй-ю-уюайй!..
Ширококрылый, палево-рыжий ястреб, с белым комком под брюхом, тянет по балке вниз, где Коряк душит коровореза.
– Курочку вашу!! вашу!!! – отчаянно верещит Ляля, топочет и бьет в ладошки. – Туда… за дубки спустился!.. пух-то, глядите, пух!.. Айй-ю-у-айй!..
Белый пушок плавает над кустами. Я качусь по сыпучей круче, рву на себе последнее, падаю на камнях и сучьях высохшего потока. Кричат голоса, пугают, в ладоши бьют:
– К дубкам берите! Слетел, проклятый!..
Я вижу над головой – белесо-пестрое брюхо с подтянутыми когтями. Темнокрылою хищной тенью уплывает стервятник по балке – к морю.
Я добираюсь до места и нахожу белую курочку – кровь и перья. Вижу оторванную головку, с сомкнутыми глазами, с похолодевшим гребнем, и по мертвым сережкам признаю Жаднюху. Только-только подремывала она на моих руках, клевала горошек доктора, и в ясном зрачке ее смеялось золотой точкой солнце… Прощай и ты, маленькое созданье, не оставившее следа! Теперь сметаются все следы, и перестало быть больно. И теперь ничего не жаль.
Я беру кровяной комок в перьях. Это не кусок мяса: это наша родная собеседница кроткая, молчаливый товарищ в скорби.
И другой раз за этот истомный день взял я тяжелую лопату, пошел на предел участка, на тихий угол, где груда камней горячих… И наложил камень, чтобы не вырыли собаки. Трещит плетень, глядит из-за плетня Яшка.
– Так лучше бы мне отдали!
Он прав, пожалуй. Не все ли равно теперь: земля или брюхо Яшки? Земля – лучше, земля покоит.
Я вижу его глаза, заглядывающие под камень. Ищущие глаза. Когда стемнеет, я выну ее и схороню в Виноградной балке.
Индюшка стоит под кедром, поблескивает зрачком – к небу. Жмутся к ней курочки – теперь их четыре только, последние. Подрагивают на своем погосте. Жалкие вы мои… и вам, как и всем кругом, – голод, и страх, и смерть. Какой же погост огромный! И сколько солнца! Жарки от света горы, море в синем текучем блеске…
Внизу затихло. Зрители уползли в балки, в норы. Убил ли Коряк – не важно. Теперь – не важно. Убил… – слово совсем пустое.
Я хожу и хожу по саду, дохаживаю свое. Упора себе ищу?.. Все еще не могу не думать? Не могу еще превратиться в камень! С детства еще привык отыскивать Солнце Правды. Где Ты, Неведомое?! Какое Лицо Твое? Не хочу аршина и бухгалтерии… С ними ходят подрядчики и деляги. Хочу Безмерного – дыхание Его чую. Лица Твоего не вижу, Господи! Чую безмерность страдания и тоски… ужасом постигаю Зло, облекающееся плотью. Оно набирает силу. Слышу его зычный, звериный зык…
Великие мудрецы, где вы?! Туманами подымаются храмы ваши, в туманах тают… Чистый разум… призрачный мир идей… отсвет метнувшегося человеческого мозга! Где вы там, бледные существа? В каких краях обитаете? Какие на вас одежды? В луче бы солнца спустились, что ли, бесплотные, породили бы из неоправданных мук, из неоплатных страданий новое существо, неведомое доселе миру. Свершили чудо! Сошли бы в дожде на землю, радугой перекинулись над морем, упали в громе! Или спускались вы, да продали вас за грош, на обертку пустили под собачье мясо, в пыжи забили? В Проповеди Нагорной продают камсу ржавую на базаре, Евангелие пустили на пакеты… Пустое небо прикрылось синью, море прикрылось синью: стоит одно другого.
Скорей бы вечер… Я… Кто такой это – я?! Камень, валяющийся под солнцем. С глазами, с ушами – камень. Жди, когда пнут ногой. Некуда уходить отсюда… Гляди на горы: они в блеске, воздушные. На море… – праздничное оно всегда. Безмолвие за ним, так… – туманность. На что же еще глядеть?..
Там, в городке, подвал… свалены люди там с позеленевшими лицами, с остановившимися глазами, в которых – тоска и смерть. И там те семеро, бродившие по горам… Обманом поймали в клетку. Что они чувствуют – скрученное железо? Я еще волен бродить. Для них один только ход – в могилу. «Истребитель» стоит у пристани, гроб железный. Его краснозвездная команда наелась баранины до отвалу, напилась из подвалов и теперь спит – до ночи. И красный вымпел тоже уснул – до ночи.
Что-то говорил доктор… Что-то случиться может… В небо смотрю я: может?
Больно глазам от света.
Я хожу и хожу по саду, смотрю на камни. Что же случиться может? Какое чудо? К кедру приду, постою, будто ищу чего-то. От кедра пышет. Душно от черных кипарисов. Все накалилось, струится, млеет. Солнце все мысли плавит. От кедра гляжу на домик, на маленькую веранду. Здесь ли я жил когда-то?! Смотрит веранда заплаканными глазами зацветших стекол. Голубые глицинии давно опали, засохли тиссы перед крылечком…
На пустыре, за балкой, возятся возле Лярвы, подсовывают оглобли. Вертятся Вербины собаки, Цыган и Белка.
Кричит от дороги кто-то:
– Прирезать бы да на коклеты!
Это дядя Андрей с исправничьей дачи – Тихая Пристань. Одет по-дачному – в парусинном костюме, в мягкой, господской, шляпе, раздобытой. Смуглый, сутулый, крепкий и – темный весь. Посиживает по бугоркам, поглядывает на дачки… побуркивает в кустах с такими же. Ходит – подумывает.
Не отвечают на его оклик, над Лярвой возятся.
– Теперь человечину едят, а на конятину заглядишься! Казанские татаре за говядину признают… А нам все чтобы мя-со было! Я вот… невете… реянец! По мне, хоть и не будь его вовсе, ей-богу! у меня от его… запор навсягды, сказать… вовсе для меня вредная пища, яд!..
Не отвечают ему от Лярвы. Он подходит к моей заграде:
– Гляжу-гляжу на вашу индюшечку… ужахаюсь?! Куда заходит! И, лих ее носит, куренков куда заводит! Какой дурной подшиб палкой – по нонешнему времени… капитал! Вон как у Вербы с гусем… ночным делом ухватили, даром что собаки. Теперь человек злей собаки! А я свинку свою на ячменек выменял, да за перекопку татаре вина пять ведер… до весны до самой обеспечен. А как отсужу Лизаветину корову… Как так я в мае получил за перекопку? Это все Прибытка старая с дурной головы плетет! В мае я за энту… за осеннюю перекопку, а вчера опять получил, за обрезку, очень огромадный виноградник! Вот Лизаветину корову отсужу, на мои гроши купила, стерьва… тогда я, сказать, барином ходить буду! А чего я спросить желаю… про павлина! Чего он у вас на холостом ходу ходит? То ли бы уж скушали, а то на базар, татаре богатые по случаю из хвоста позарются… татарки ихния заместо цветов в волоса убирают. А мясо у них, сказать… не вредное?..
И отходит – в прогулочку. Идет – подумывает.
Павлин… Разве он мой еще? На табак если выменять… осталась одна щепотка, а курить надо много… К ночи надо беречь, к ночи наваливаются думы. Одичал теперь, не поймать. А на табак бы можно – не пшеница.
Осматриваюсь, отыскиваю павлина. Вон он, по пустырю бродит, хвостом возит. Татаркам на украшение… богатым. Остались еще богатые? Гляжу – прикидываю… и он глядит на меня, мой «табак». Я отвожу глаза, стараюсь подавить прошлое. Первые радостные утра, начинавшиеся криком его на крыше нашего дома, его топотаньем по железу… А без него будет еще чернее…
Я сажусь на каменное крылечко у веранды. Оно остыло. Солнце ушло за домик. Гляжу на сухие грядки – солнце и с них сползает. Да, огурцы пожухли. Поклеваны помидоры, висят кровяными лоскутками. И поливать не надо. Всматриваюсь в потрескавшуюся у ног землю. Муравьи еще живы, суетятся-тащат по своим норкам. Какие-то и у них планы. Этот как будто размышляет, поводит усиком… не мыслитель ли муравьиный? Я беру ветку сухого тиса и веду по земле, мету. Где теперь планы и… философия? Так и все. Чья-то слепая сила. Метет… И… солнце по кругу ходит. Вечно ли ходить будет… Придет и на него сила. И оно не будет ходить по кругу.
Чудесное ожерелье
Да когда же накроет ночь это ликующее кладбище?! Солнце остановилось над Бабуганом, не уходит. Не насмотрелось. Смотри, смотри… «Истребитель» приглянулся тебе, и ему посылаешь приветного зайчика на вымпел – добрый вечер.
Просыпаются там – ночь чуют. Похаживают, в черной коже, по палубе, пощелкивают дельфинов – чешутся у них руки.
Нет, западает солнце. Судакские цепи золотятся вечерним плеском. Демерджи зарозовела, замеднела… плавится, потухает. А вот уж и синеть стала. Заходит солнце за Бабуган, горит щетина лесов сосновых. Погасла. Похмурился Бабуган, глядит сурово, ночной, – придвинулся. Меркнут под ним долины. Тянет оттуда тревожной ночью… Выстрелы бьют по ней – боятся ли, угрожают…
Пора и вам, тихие курочки, прибираться к ночи. Последние даю вам отруби. Пришел и павлин покрасоваться хвостом, танцует. Чего ты танцуешь, Павка? Нечем мне заплатить тебе. Променяю тебя татарину-богачу – будешь плясать недаром.
Я подкрадываюсь к нему, протягиваю руку. Он словно чует, оглядывает меня, взмывает на ворота и шумно падает в темноту.
Я все стою и смотрю, как курочки вспархивают на оконце курятника, легкие и пустые. Индюшка тревожно вертится у пустой чашки, пытает меня глазком. Ну да, больше ничего не будет.
Вот он и кончен день, незнаемый день, прожитый для чего-то, – совсем ненужный. Какое шнырянье днями! Можно теперь посиживать на пороге, глядеть на звезды – хоть до утра. Они будут мигать, мигать… Поэты их воспевали, ученые разглядывали в стекла. Разглядывают давно. Есть ли там темные, между ними, умирающие земли? Где ты, страждущая душа, моей родная? Что там развеяно, по мирам угасшим? А сколько там крови пролито и выстрадано страданий! Или все свято там… не свято и не грешно, а так – миганье?