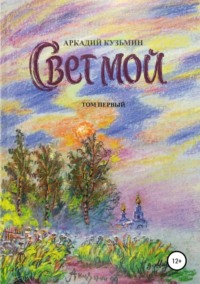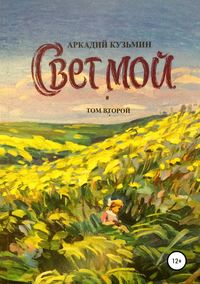полная версия
полная версияСвет мой. Том 3
Казалось, то же самое уже было и это ты с отцом мчишься, так же мелькают перед тобой лошадиные копыта, выбивают комочки снега, бренчит сбруя, – все связывалось у Антона с воспоминаниями о нем.
Забравшись в лесную глубину – с пестревшим нежным березовым царством – съехали здесь с дороги и развернулись для удобного выезда опять на нее. Хотя рубка была грустной – по-необходимости, но, довольные, свалив несколько стройных, почти без сучьев, белоствольных деревьев и распилив на части для удобства перевозки, а потом, подтаскивая, накладывая и увязывая воз, очень распарились и устали от физической работы на глубоком снегу. Но зато даже угрюмый Усов заулыбался и разговорился с Антоном, которому оттого подумалось теперь, что он совершенно зря придирался в своих чувствах к нему. Был человек как человек. «Может, я еще мало что смыслю в жизни?» – задал он себе вопрос.
На обратном пути в лесу, не имевшем существенных перепадов местности, дровни с березняком катились ровно, и Антон сначала шагал за ними. Только что-то вдруг случилось, и ездовой, сидя на передке, велел живо и Антону тоже сесть на воз. Что он и сделал, не мешкая. Немедленно замелькал кнут, отчего все быстрей и быстрей понеслась вперед лошадь с возом. И, расступаясь, побежали мимо – назад – обснеженные деревья.
Что такое? Зачем? Антон с немалым удивлением взглянул на шального возницу. И тут-то увидал какого-то мужчину, которого они миновали, проскакивали с лету, не останавливаясь, вроде бы не старого еще на вид, но обросшего, воздевшего руки в рукавицах – то ли с просьбой, то ли с мольбой о чем-то. Он кричал что-то им, даже пробежал за дровнями. Однако Усов погонял кобылу с лесом до тех пор, покуда растопыренная эта фигура не отстала насовсем и не скрылась затем за поворотом.
– Он еще худо может сделать нам, – пробурчал он после в объяснении такого спурта. – Возьми его на дровни – и сам будешь пропащим. Научен уж горьким опытом…
Ужасно!
Вот повторение худшего, огорчительного для Антона. И снова заскребло на душе у него оттого, что, выходит, они взяли такой грех на себя – и он поучаствовал в том, что не помешал ездовому, – и оттого, может, человеку в беде не помогли…
Правда, уж менее километра отсюда оставалось до опушки, и пешеход шагал и держался вроде бы устойчиво…
Нечто подобное случилось в ноябре сорок первого года: тогда трое братьев, ехали на дровнях в лес за дровами. Двоюродный брат Толя правил Гнедой. И вот из прилеска, что за развилкой, навстречу им вышла, что призрак, серая фигура будто бы красноармейца. Явно изможденная. Она попыталась вроде бы их остановить на всем ходу, жестикулирую, прося. Рядом пробежала сколько-то шагов. Да куда тут! Толя, словно спохватившись, стал нахлестывать кнутом Гнедую; он подгонял ее, не давая братьям опомниться.
Они боролись с ним в санях во время гонки, пытались выхватить возжи у него. Да толку что. Они промчались уже далеко.
– Гад! Какой же гад ты! – Негодовали Антон и Валера.
– Ну, я сдрейфил,.. – говорил Толя после, – с кем такого не бывает. Подсадить его – так он отнимет у нас лошадь или нас убьет… И ведь он не в лес, а к городу шел… Непонятно…
А назавтра браться, как ни страшно им было, снова ехали в санях мимо этой развилки и видели на пригорке лежавший навзничь почернелый труп в красноармейской шинели. Но неизвестно, был ли это тот красноармеец, который пытался их остановить вчера. Они как-то видели, оказавшись случайно в некой лесной засаде и заслышав шум мотора автомашины, что проезжавшие по большаку немецкие солдаты, заметив вблизи какого-то прохожего, вмиг остановили свою автомашину, вышли из нее с карабинами и стали стрелять в него – живую мишень…
«Что же это – подлость? Свинство? С нашей стороны, – думал теперь Антон. – И прав ли Усов, отвечающий сразу за лошадь и меня, еще неопытного парня. Ведь мы были безоружными, а немцы нередко по ночам выбрасывали сюда десантников…» Однако что-то важное при всем этом все-таки мешало ему в мыслях своих спрятаться за спину старшего.
«Вот в следующий раз я уже ни за что та не поступлю, – решил он. – Буду знать…»
Как-то меркло у него впечатление от такой дивной лесной, хоть и чисто деловой прогулки; у него упало настроение столь, что смотреть в глаза никому не хотелось, словно сам он совершил нечто безобразно постыдное.
В ушах отдавалась-слышалась траурная музыка, производимая оркестром, и прозвучали выстрелы при салютовании: на опушке, под соснами, военные хоронили двух офицеров, подорвавшихся на немецкой кассеточной мине – боевой новинке.
Сейчас же с запада и низко залетели досюда, два тонкотелых «Мессера»; они, развернувшись (никем не атакованные и никем не обстрелянные), накинулись со стрельбой на что-то находившееся там, за лесным гребнем, и очень скоро там над ним поднялись султаны жирного дыма.
Антон отчасти был потом удовлетворен в другом. Спустя день он, идя к шоферам с поручением, почему-то, не минуя, зашел в дом, занимаемый командиром части, который, как оказалось, еще не вернулся сюда, куда Антона словно что-то позвало… И он не обманулся в интуиции своей: в прихожей, перед молоденькой блондинкой Женей, секретаршей, сидящей за столом, въедливо торчал, сторожа ее, один из недавних обидчиков Антона.
Тот – в знакомой куртке и шапке – лишь полуобернулся лицом к Антону, услыхав его приход и голос, и Антон узнал противную физиономию наглеца, мигом потухшую при столь неожиданной встрече. «И он-то, выходит, уже женихается! – обожгло Антона открытие-догадка к некоему смущению, или замешательству, служивой девушки – женихается этот вымахавший на бульбе под потолок школьничек! Ничего себе! Типчик… Он девушку уже обхаживает петушком, перед ней красуется, а парня незнакомого, оказавшегося перед ним на дороге, ни за что и ни про что берет в штыки… Исподтишка… О, порода скотская!»
– Женя, это, что, твой новый друг? – спросил Антон тотчас же.
– А что? – Она лишь передернула плечами. Недоуменно.
Парень молчал, хмурясь.
– Смешно! Как ты можешь?!
– Да что тебе?
– Он ведь законченный уже паскудник по нутру своему. – И Антон, гневясь, дернул парня за полы куртки. – Что же вы, братцы, вдвоем-то поперли на меня?.. В чем таком я провинился перед вами?
Девушка начала сердиться:
– Ну, и ладно вам!.. Мне работать нужно… Командир сейчас приедет. И вы оба – оба! – Уходите…
– Все Михей затеял, а не я, – уверял ответчик трусоватый: он валил на друга… Но держался и теперь с какой-то наглостью.
– А тебе понравилось? – И Антон опять дернул его.
Они сцепились друг с другом.
У них разгорелась жестокая борьба, не похожая на драку, и была она примерно равной; они крутились в схватке, как волчки, насколько позволяло помещение: валили друг друга с ног, а падая, снова вскакивали и схватывались непримиримо. Антон временами все-таки одолевал соперника, оттого, наверное, что чувствовал правоту свою и так добивался какого-то торжества справедливости, что ли, и что соперник сильный был будто бы обескуражен этим его непреклонным вызовом задиры…
Вокруг них суетилась пухленькая Женя и, пытаясь их разнять или унять, старалась повысить голосок:
– Слышите… Сейчас же прекратите! Вот уже прибудет командир… Ну, кончайте, я прошу!
Она не понимала ничего. И даже закипала от возмущения и девичьего бессилия.
Да Антон, отчасти успокоенный и довольный тем, что хоть так потрафил своему самолюбию, уже кончил волтузиться с обидчиком своим, как раз послышался гул прилетевшего «Кукурузника»: этой зимой на нем обычно летал командир Ратницкий.
После этого Антон уже ни разу не видел того парня возле Жени, и она будто сердилась на него, отчего ему было жаль ее.
А фронтовое противостояние, решавшее судьбы людей, здесь длилось все зимнее время.
И что в чем-то сыграло свою роль, Антон не знал, но полагал, что брать свою вину на себя, – это твое достоинство, что не ущемляет чувства других людей, и это-то, возможно, впоследствии и сопутствовало тому, что майор Рисс взял его в свой отдел и по-прежнему был дружен с ним, а потом и свел с художником Тамоновым. По обычной приязни к нему…
От тебя самого может многое зависеть.
XVIII
Суровел лес – с сосной и елью – вокруг завьюженной деревни, что под Починками. К западу же снежно блистало, пленяя взгляд, поле с чистым строем красноватых метелок – березок; Антон, часто поглядывая сюда, словно бы невольно привечал в них своих еще невзрослых ровесников. Всю-то зиму это бело-сахарно сверкавшее поле завораживало – тогда, когда по нему гуляли белые паруса метелей, застилая на отшибе деревни и редкие серевшие баньки с клубившимся иной раз паром (а парились-то в них местные жители по-настоящему – с березовыми веничками!) и когда золотилась снежная пыль под солнцем, что пробрызгивало лучами весь молодой лесок и желтило, и румянило роскошные снега, и лежало почти нетронутым, неисхоженным никем, только чуть-чуть плавясь и больше блестя тогда, когда уже по-весеннему закапало с крыш и повисли на них сосульки.
Антон, открывая наружную дверь крайней избы, всегда видел этот пейзаж перед собой; но ему виделось в его неяркой простоте красок нечто прелестно естественное, лиричное, единственное в своей красоте, которая его очень трогала и ни за что ему не надоедала день ото дня, сколько он ни любовался ею. Какая-то незащищенность и доверительность этого простора и одновременно несоответствие в нем чему-то сурово военному, что совершалось отныне повсюду, маяли его душу. И было бы ему стыдно признаться кому-нибудь в этой своей привязанности и чувствительности к обыкновенному пейзажу: да не чудачество ли это какое?! Однако и другие, даже вовсе взрослые сослуживцы, примечал он, как-то тоже щурились, что примериваясь к несказанно дивному мирному покою на таком просторном поле.
За многие-многие дни пребывания здесь Антон будто познакомился с ним столь близко, что потом – по отбытию отсюда – аж заскучал по нему, притихшему среди большого леса, где водились даже волки, и еще открывшихся больших родных просторов.
На снежную поляну уже классно садился и взлетал с нее двукрылый тихоход «У-2», снабженный лыжами; на нем летал по служебным делам (фронтовых госпиталей было достаточно) командир Управления – подполковник Ратницкий. Безопасности и надежности ради. И для этого сюда был прикомандирован боевой молодой летчик – грузин, независимо державшийся черняво-броский красавец. Сосланный сюда за некую провинность. Оттого он, видно, и пошаливал виртуозно в воздухе, закладывал вираж, пикировал и проныривал у почти самых верхушек сосен. Он так, словно готовясь к тому, чтобы сманеврировать, учитывал то, что в округе еще вольно рыскали «мессершитты». Нужно было быть каждую минуту начеку.
Да однажды вышел курьез не по его воле. Сослуживцам довелось наблюдать, как при сильном ветре и метели самолет, в который влез грузноватый Ратницкий, не смог сразу оторваться от земли при тяжести – он взлетел лишь с третьего забега. Над чем все очевидцы этого лишь любовно, незлобливо подтрунивали. Как же: командир при всех подчиненных батькой был.
Боевой же пилот был уверен в том, что скоро защитит свою честь – все равно добьется отмены его отчуждения от своей боевой эскадрильи, от своих боевых товарищей. Он переживал так приключившееся с ним одиночество без них.
Что ж, все армейцы-управленцы переживали тоже – оттого, что под Чаусами фронт, хотя гудел-урчал, не переставая, но никак не продвигался вперед, на запад; немец здесь намертво оборонялся – наши все не могли выкурить его отсюда.
Впрочем было так, что крайнюю избу, ставшей как бы смотровой для Антона Кашина, срубили еще в довоенное время, подвели под крышу – и только; не успели сложить в ней даже печку, уж не говоря о том, что не построили двор для живности, как положено. Так что она пустовала до этого. В ее переду разместилось трое медиков – майоров, а в кухне кухарили, готовили завтраки, обеды для личного состава Управления – соседство вынужденное; но так применились к непростой обстановке, к друг другу. Как в тесном кафе. Ели стоя, почти на ходу; брали еду с собой, в котелки.
И этой зимой из-за недопоставок нужных круп постоянно манная каша, либо биточки на завтрак, на ужин так поднадоели в питании.
Между тем местные крестьяне, жившие, что хуторяне, просторно, казалось, не отягощались так теперешней бедой, как те несчастливцы, которых опалила война и которые попали в немецкую оккупацию; тяжелая судьба их явно меньше задела – выходит, она поровну не раскладывалась на всех окрест. В отличие от родных Кашину Ржева и Ромашино, как и других мест, где жители голодали и даже сейчас голодают (он не случайно сетовал в душе на то, что вот здесь, на задворках кухни, выросла целая гора картофельных очисток, а дома этого добра еще не хватает), здешние дома, дворы, даже сараюшки не были порушены, точно определенно стороной отсюда прополыхала война, хотя оккупанты в этом краю и долго гостили. Недоставало только мужчин, мало было живности. Но хозяйство существовало. Хозяева ели бульбочку, была у них ржица и другие съестные припасы – капуста, огурцы – то, что они вырастили в огородах; были и лесные ягоды, грибы. Антон ночевал в доме у местной матери небольшого сына, расстилая постель на большом сундуке в кухне перед печкой, у самых окон (а с утра скатывал постель и убирал). Женщина была малоразговорчива, сурова. Но отходила лицом, едва только видела мужчину – сержанта Пехлера, ночевавшего тоже в ее доме. И Анна Андреевна приревновала к ней его.
Антон уж навидывал всего все сравнивал, непроизвольно думал обо всем.
Вон местный старик, босой, неспеша потопал по снегу в мороз – надо же! А рядом с ним – не внук малолетний, а сынок его шлепает себе. Это зрелище занятно всем, удивляет всех. Да, после парной баньки можно и босиком пройтись неспеша по снежной целине, как этот старик, завидую ему, говорил Коржев, называя стариком еще пятидесятилетнего бородатого и жилистого мужика. И его товарищи, армейцы молодые, так удивлялись тому, что тот шел домой лишь в лаптях, насунутых на голую ногу. А также и тому обстоятельству, что тот еще был способным на отцовство.
Да, жизнь нигде не прекращалась ни за что, несмотря на смерть; она лишь притаивалась до поры – до времени и была способна вмиг раскрыться, как бутон цветка. Никто от нее не застрахован.
Антон самолично натаскал дров и воды в хозяйкину черную баню, натопил печь-кладку из камней-булыжников; едкий дым плыл, завивался, поднимаясь, в открытую дверь и окошко. В восторге вместе с ним друзья – Коржев, Аистов и Маслов – мылись, парились, визжали и фырчали от удовольствия. Уф! Как здорово! Стоило лишь плеснуть на камни ковш воды как она мгновенно превращалась в пар; после нескольких ковшей, в бане становилось жарко столь, что тяжело было дышать. И уж невозможно залезть на верхнюю ступеньку парилки, чтобы там, наверху, попариться, постегать тело веником! Да и на второй ступеньке посидеть нельзя… Была такая жара. И ведь еще и еще подбрасывали парку больше любители на потеху. Резвились отчаянно. Друзья с жары голышом выскакивали наружу, бултыхались в глубокий роскошный снег (какого больше нигде нет) и, полежав в сугробе, поболтав руками-ногами, вновь заскакивали в парную.
– Антоша, зайди, пожалуйста! – позвала его Ира в дом.
Он зашел в избу следом за ней и наткнулся на другие девичьи глаза – Любины.
– Что, из бани идешь? – Ира сияла, радуясь ему.
– Да, только что там были, – сказал он, смущенный вниманием девушек.
– Какой же ты чистенький, хорошенький, – не удержалась Ира. – Правда, Люба?
Они, девушки, вогнали его в краску, хваля его. Причем в присутствии пришедшего к ним в отдел солдата – письмоносца, доставлявшего в Управление нужную почту.
Антон уже видел его не раз. Небольшенненький рядовой боец, уже в летах, всегда вежливый, исполнительный и многознающий, видно, как школьный историк, исхаживая многие километры даже в непогоду, заявлялся сюда как некое открытие для всех штабистов, встречавших его как давнего знакомого с радостью.
Война между тем гуляла, и какое-то спокойствие – что комфортность – в этой долгой зимней стоянке уже утомляла дух управленцев. Это чувствовалось так. Хотя служилось им прежним заведенным образом. Между делами разучивали и пели текст нового гимна Советского Союза, только что опубликованного. Разговоры шли о подписке на «Большую Советскую энциклопедию», рассылаемую армейским подписчикам через военторги. Кинопередвижкой демонстрировались фильмы: «Они сражались за Родину», «Валерий Чкалов», «Чапаев». Антон же и Ира под опекой ефрейтора Аистова ездили в Починок (в Политуправление): там получили комсомольские билеты.
Да, именно успокоенность претила совести людей. Грех какой! Оттого еще, видать, и летчик-грузин «шалил». Он словно испытывал служак на прочность, на обычную боевую готовность. Не зря.
Для Антона же тут, главное, было открытием то, что он в эту зиму обнаружил разноликость окружающих его людей не только по их характерам, но и по тем качествам, насколько кто из них нравился ему или нет.
И вот уж апрель. Теплынь. Наконец дана команда на выезд. По-быстрому происходит сбор всякого армейского имущества, оно грузится, укладывается в кузова грузовиков. Все радостно хлопочут; дельны, подвижны, услужливо-приветливы. А яркое солнце, бликуя, лучами золотит ниточки в ручейках, в лужах, снеговые изломы, пластинки льдинок, металлические части автомашин, лица и руки хлопочущих армейцев. Горизонт тает в плывущее-дрожащей розовой дымке.
Постепенно выбрались на шоссейку, пролегшую за березовым мелколесьем; она была уже разъезженна, в разливных лужах, ошметках снега, нагруженные сверх грузовики угрожающе раскачивались на выбоинах из стороны в сторону и часто застревали, останавливались. Приходилось всем даже спускаться из кузова или вылезать наземь и подталкивать даже дорожную избитую технику.
– Ну, прощайте, – заговорщически Антон шепнул на прощание провожающим березкам, когда за ними перед полуторкой открылся новый простор.
XIX
Бом! Бом-бом! Плыл-разливался опять в соседстве сладко-мелодичный колокольный звон – над зелеными гущами садовыми и нагретыми крышами Климовичей – с высокой колокольни светлокаменной церкви, обнесенной неразрушенной стеной краснокирпичной. Бом! И плывущий звук пленял сочно золотой красотой своей. За спиной недвижного покамест в передышке фронта, собиравшего для нового удара по врагу силы свежие и возмужалые теперь, после трех военных лет. В храм молельный тянулись преимущественно пожилые женщины, в платочках темных, – многолюдно здесь было по субботам, воскресеньям; возле него же, с внешней стороны ограды, там, где свободно от раскидистых яблонь (уже плоды видно зрели), само собой шумел базар: в рядах разложены главным образом ранние овощи и зелень – всего понемногу. Мир людской жил, соседствовал себе привычно.
Несомненно, вследствие трагических событий войны вновь немалое число испуганных жителей, а не то, что набожных, обратилось к религии – поверило в давние библейские сказания.
Толпясь под вознесенными церковными сводами и снаружи помещения и молясь, и прогуливаясь, верующие и любопытствующие участвовали в богослужении и соприкасались только с ним. А после сокращенно (обновленцами) в духе времени церковной службы прихожане с готовой поспешностью совали бумажные купюры и монеты на поднос, с которым по широкому кругу обходили всех пришедших сюда церковнослужители в черных рясах – неторопливо, чинно. По заведенному тут ритуалу. Так попадала на поднос и часть базарной выручки. Ведь дверь в церковь была для каждого открыта, не заперта: заходи, что говорится, с богом, – ну и веруй на здоровье, сколько хочешь. Никто не воспрещал.
Антон Кашин вышел к сослуживцам на террасу деревянного двухэтажного дома, обращенную к зданию церкви, когда к ее ограде изнутри легко приблизился бородатый быстроглазый батюшка, бывший в темном сюртуке и в черной шляпе, и, поздоровавшись с ними как со старыми друзьями-знакомыми, сказал без всякого предисловия:
– Вот молимся благодати, что погода установилась благодатная. Чай, на пользу делам фронтовым пойдет. Веруем…
– А то и будет, батюшка. – Иного и не ждем теперь, – уважили его солдаты.
Известно, наша православная церковь не сторонилась общего патриотического движения соотечественников: тоже жертвовала денежные средства на выпуск грозного оружия для скорейшего разгрома фашистских захватчиков. И, как пример, этот здешний поп, говорили, был даже награжден орденом Ленина за активную помощь местным партизанам во время немецкой оккупации: он искусно превратил действующую церковь в надежное место для их явок, укрытий, совещаний. Он – патриот и поэтому нынче правил церковную службу в согласии с местной властью.
– Видим, батюшка, у вас нынче много яблок уродится, – сказал старшина Юхниченко.
– Да вы их соберите потом, – сказал он с живостью. – Для питания солдат…
– Ну, наверное, нам уже не успеется…
– А-а, понятно все… Успехов вам! – И батюшка скрылся в саду.
И уже стемнело. Однако вход в белевшую церковь был открыт, и было видно, как туда пробиралось двое неких полуночников.
– Может, то воры забрались? – обеспокоился Антон.
– Нет, какое! – Сержант Петров фыркнул. – Я подметил: то влюбленные сюда повадились… На свидание, и поп не препятствует им – терпеливый самодержец.
У Антона, только что возвратившегося из отпуска в часть, было ощущение, что он вовсе и не отсутствовал в ней эти прошедшие три недели. Все сослуживцы были рады ему, расспрашивали его обо всем и о матери, и он не успевал отвечать на все их добрые расспросы.
– Ну-таки ты вернулся, отважный?! – Казалось, лишь старшина Юхниченко, кругленький кот, только не мурлыкающий, явно не разделял общего радостного настроения. – Ах ты мать моя старушка…
– Отчего же… – сказал Антон. – Ведь я вам сразу твердо говорил…
– Да мы ж не думали все-таки (он так и сказал: «Мы ж не думали…»), что ты вернешься к нам обратно, – зачем-то он уколол опять мальчишку.
После чего Анна Андреевна посмотрела на старшину осуждающе-недоуменным взглядом. Однако он, словно, и не замечал за собой ничего дурного в сказанном, не видел в своем прилюдном рассуждении ничего предосудительного. Есть сорт таких людей – некоммуникабельных и глухих к движениям другой души.
Тут Ира тоже, появившись, тотчас же восхитилась им, Антоном; она нашла его возмужалым, загорелым – увидела своими счастливыми по-детски глазами. Однако он-то знал доподлинно, что это она говорила ему комплименты от свойственной ей доброты, унаследованной ею, безусловно, от матери, дочери степей заволжских.
– Мамочка, я умираю, до чего есть хочу! – Обратилась она к Анне Андреевне. – Ой, я так спешила сюда на ужин – представьте, не шла, а буквально летела, мама, что, представьте, столкнулась с капитаном Шелег и сбила его с ног, ну, чуть было не сбила…
И только довольный и счастливый Антон решил для себя: «Ах, как хорошо, что я снова вместе со всеми! Я во всех влюблен… Славные люди!..
Как Юхниченко пробасил:
– Вот что, Кашин: ты давай-ка завтра дуй к лошадкам. Усек? Там помочь нужно.
«Ну, если бы не вернулся назад – кое-кто и не заметил бы этого, пожалуй. – Подумал Антон – Но кому же было бы хуже?»
Лошади, принадлежавшие Управленческой части, содержались на зелено-травяной окраине Климовичей, где легче было их кормить, выгуливать и пасти: на полном-то приволье.
Старший конюх Усов, тощий и усатый пятидесятилетний солдат, чинивший, сидя возле палаточки, амуницию, когда Антон подошел к нему с объяснением, что назначен в помощники, его назначение и его самого встретил без восторга, кисло. Был он вообще угрюмого склада человек, недоверчивый, не расположенный ни к кому в особенности. Однако сразу дал охотно распоряжение на тот счет, чем Антону следовало заниматься: велел поймать, привести и впрячь в бричку пасущегося вороного мерина.
С обротью Антон шел целиком кочковатой долины, когда из густой травы, почти из-под самых его ног, подняв уши торчком, выскочил серый лоснившийся комочек – заяц; он на миг присел, скосился на Антона, тихо сказавшему ему, чтобы не боялся он, и затем легкими прыжками, петляя, лениво пустился наутек.
Не без некоторой сноровки, полученной в детстве, и хитрости он обротал жеребца. Подведя его к остову разбитого грузовика, взобрался на него даже верхом и прогарцевал, чтобы побыстрей доехать. Но дальше на пути торчали какие-то большие кочки, и жеребец перешел на шаг. Антон не подгонял его – с наслаждением глядел по сторонам. Только лошадь напоследок вдруг рванулась вновь, скакнув и взбрыкнув; так что, не удержавшись от ее норовистого рывка, он, к стыду своему, скатился с ее гладкого крупа и упал – шмякнулся о землю. Отчего, разумеется, ушиб бедро и локоть. Но большого стыда не испытал от этой неудачи, так как не видел рядом зрителей. И снова, потирая больное тело, отправился в отдаление, стал излавливать лошадь, убежавшую уже с обротью. Причем она еще агрессивнее норовила стукнуть его задними ногами и, не даваясь, вертелась перед ним подобающим образом или отбегала дальше. А он приговаривал настойчиво: