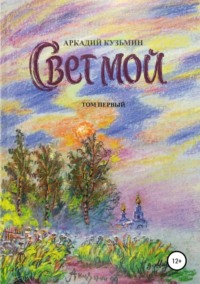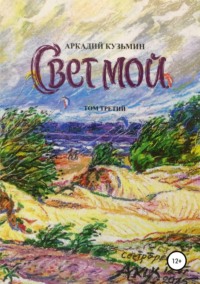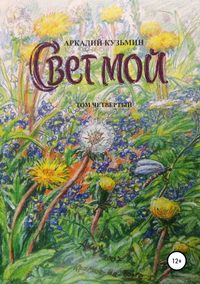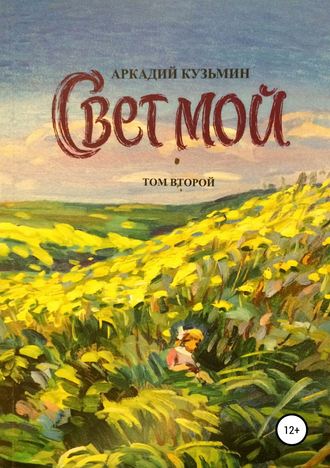 полная версия
полная версияСвет мой. Том 2
– Ну еще какое-то время ушло у меня на то, что я бензинчику долил и залил водички в радиатор. Кстати, оказался вблизи пруд. А то была бы мне крышка. Наверняка. Осторожно сполз машиной к низу, повел ее задами; потом так газанул по проселочной – лишь брызги да комья земли полетели в стороны. Погнал ее на всю железку. Плохо, что она, полуторка, была дюже разболтанной – на живую нитку. Громыхала, проклятущая, что несмазанная колесница. Немцы поздно спохватились, а кое-где пришлось их давануть, чтобы пропустили. Но где-то в середине моего поспешного бегства за мной приклеилась танкетка и плевалась снарядами вслед. Здорово лупили они, подлецы! Снаряды рвались со всех сторон и обкладывали меня, как зайца; взрывы слепили мне глаза и ошметки земляные сыпались на машину. Казалось, еще разочек трахнет снаряд – и кончится эта гонка. И я вот так петлял – знаешь, вовек не забуду столь сумасшедшей езды. Езды не по правилам. Только и думал о том, чтобы выдержала все моя ветхая посудина, – в такой-то час не подвела меня… И сыночка двухлетнего помнил…
Вынесла она меня к самому Днепру, к своим. Нельзя сказать, что уж шикарно (все-таки я удирал), но вполне благополучно. С пустяшными, незамеченными в пылу гонки, ранениями в плечо и руку.
И здесь случилось уже новое испытании. Ну да ладно. Поехали!
– А где твоя жена?
– В городке под Костромой.
– Ну, немец туда не доберется, наверное.
– Да конечно же! Выдержим!
VI
Яна на этот раз жила с детьми в хорошем доме у добрых хозяев, готовившихся к предстоящей свадьбы дочери с местным парнем – женихом. И ее увидела, оценила. В эти недели полторы-две, что находились здесь, она успела несколько освоиться и даже торговать – помимо редких занятий с учениками – хлебом для школьных учителей, да удачно выторговывала у местных продавцов–менял растительное масло – в обмен же на носильные тряпки, привезенные из Ленинграда. Количество их в мешках заметно убавлялось.
Шел уже напряженный август. Сюда, к Калачу, пробивались сильные немецкие дивизии; изматывали наши войска, которые что есть мочи сдерживали их на отдельных участках. Открыто – нагло летали везде немецкие бомбовозы и истребители, пикировали с бомбами, обстреливали, по ним никто даже не стрелял. Не видно было наших самолетов. И не слышно оптимистичных фронтовых вестей, а лишь слыша недобрые слухи, мужики стискивали зубы.
Все понимавшая директор школы помогла в том, что Степины выехали из Добринки на полуторке. Военные, взявшие их, велели им, уезжающим, лечь в кузове и не высовываться в пути, на дороге. Безопасности ради.
Когда же подъезжали к Сталинграду, Павел был поражен невиданным скоплением народа в степи голой – народа, уходившего молча на восток.
Да, время трубило.
Участились налеты вражеских бомбардировщиков на город. Вследствие бомбежек горели здания, все трещало, дымило, сыпалось, валилось сверху; того и гляди обрушится что-нибудь на голову, поэтому прохожие уже ходили посреди улиц, а не по тротуарам. Для большей безопасности.
Яна страшилась. Опять они оказались в ловушке.
У Степина было оформлено командировочное удостоверение. И он опять повез свою семью на место новой работы жены и еще две семьи в Щепкин, поселок, что был примерно в ста километрах северней. Поехали ночью.
И надо же: ему сподобилось возвращаться в кузове попутки-полуторке, и с тем же командиром, который недавно, ужаснувшись, сказал ему:
– Ну, тогда мы проиграли!
Но пока они оба были живы!
После сумасшедшего бомбления немцами города в конце августа стало ясно: наступали часы его осады.
Антон Кашин осенью 1942 года прекрасно увидал фотоснимок горевшего Сталинграда на развороте немецкого журнала; сделанный с высоты – очевидно, из немецкого самолета. Он являл собой панораму города над Волгой, и над ним все небо застилал черный султан мрака. Эта картина, как апофеоз достижения немецкой военной мощи, главенствовали в том журнале. В руках с ним сидел на походном стульчике упитанный немецкий унтер-офицер, уплетал бутерброд с колбасой. Было затишье на фронте под Ржевом. И когда малышка Таня подошла к нему и попросила себе кусочек бутерброда, он молча сунул ей в руку этот журнал-забаву. Мол, вот погляди, девчушка…
Перед глазами Павла плавились, горя, как свечи, 28 цехов его опустевшего огромного завода. И часть других больших заводов тоже полыхала. Директор печально сказал:
– Уезжайте, братцы, куда хотите. Я вам больше не начальник. Не держу никого.
Связи с Щепкиным не было.
Что ж, делать нечего. Павел взял в руку черный чемоданчик и потопал, направляясь к глади Волги, блестевшей за кирпичными трубами, всякими заборами, решетками и завалами. Завод-то выстроился хаотично, змейкой по берегу, и следовало пройти по его территории, чтобы выйти к Волге. Как раз начался обстрел, и Павлу пришлось где-то даже падать, чтобы ненароком не зацепили осколки при взрыве, пока он не пролез через невероятные нагромождения к самому берегу плещущей полноводной реки.
Стоящая у берега пузатая баржа беспорядочно загружалась, потопляясь, принимая лезших скопом на нее людей – оказалось, именно заводчан, теперь оставшихся без работы, отпущенных совсем и бегущих на восток спасения ради. На корме ее сновал, явно как распорядитель, знакомый Павлу еще по студенчеству и по нынешним заводским делам армянин, почти друг. Он крикнул тому, кинул на борт к нему свой тощий чемоданчик и как-то сразу вспрыгнул на нее сам. Погрузку вскоре прервали, дабы не было перегруза людьми. И вот баржа тяжело отчалила среди плавающих бревен, досок и других ошметок. Закрутилась в широком речном течении.
А среди отплывших был и заместитель директора завода, с кем Павлу приходилось общаться. И он-то, понижая голос, к слову сообщил ему неприятную весть о том, что вчера расстреляли на месте мастера Н., бригадирствовавшего над Павлом, как неисправимого ворюгу. Застукали на месте. Н. все тащил со склада. Шагу не мог ступить, чтобы не подумать вожделенно: «А что я буду тут иметь». Как что, он предлагал любым встречным и поперечным: «А пойдем-ка – дровишек пожилим». Так пытался втянуть и других в какую-нибудь аферу. «Хорошо, что меня не втянул», – подумал тут Павел.
Когда наконец баржа тупо уткнулась в береговой песок – пристани, как таковой, поблизости не было – все с нее стали спрыгивать прямо в воду и кто куда придется. Здесь каждый уже действовал по собственному усмотрению.
Вскоре Павел налегке добрался до грунтовой дороги. Мешал ему пройти вперед шедший трусцой верблюд. С наездником-калмыком.
– Можно мне пройти? – спросил у него Павел.
– Пожалуйста, – сказал тот. И пропустил.
Он потом подсел в кабину какой-то полуторки. Поехали вверх уже по левобережной Волге.
В одном месте был пункт, где выдавали удостоверения – справки всем бежавшим на восток о том, что предъявитель сего направляется в восточные районы страны.
VII
«А как же мне попасть на тот – западный берег?» – думалось Павлу, пока он продвигался вдоль Волги в попутных автомашинах и не увидел на свое счастье на Волге уже налаженную из понтонов военную переправу. С надеждой он спустился по-быстрому с берега к ней.
– Пропуск давай! – грозно затребовали у него.
Он, лихорадочно суетясь, показал свое бумажное удостоверение и объяснился умоляюще. У него там ребятишки. И его пропустили, махнув рукой.
Щепкин, поселок приличный, лепился на пригорке. В этот вечер Яна несла одну вещь, чтобы по-привычному поменять ее на растительное масло. Выменяв масло, она с ним (в бутылке) поднялась к себе, вернее, к дому. Перед ним же стояла незнакомая женщина. Она сказала ей:
– Извелась ты вся. Поэтому я подгадала на тебя. Не печалься. Твой муж вот-вот будет здесь.
– Что вы! – Яна не могла поверить в такое. – Весь Сталинград полыхает. Остался бы только жив…
– Что вы, доченька! Он уже в дороге. Вот-вот будет. Ждите!
И точно было так, как предсказала женщина.
В Щепкине без проволочек дали Степиным подводу с лошадью, и на ней они доехали обратно до переправы. А вот как переехали Волгу – Павел уже не мог вспомнить позже, когда о том рассказывал другим.
Они, переправившись через Волгу, затем тряслись в кузове грузовика, везшего свиней. Над свиньями были прилажены доски на бортах, нечто вроде нар, и на этих-то досках они, сидя и лежа, ехали. Так доехали до станции Полласовк, через которую курсировали поезда из Астрахани в Энгельс.
Павел, еще неприлично щеголяя в белых полотняных брюках, уже очень замызганных, обследовав новую местность, выяснил, что в Полласовке имелся (и функционировал) маслозавод; он с дальнейшим любопытством дошел до него, поговорил с его директрисой, деловой дамой, и даже дня три (поскольку еще не было поезда) поработал в охотку на тяжелом прессе, за что получил столь нужную оранжево-желтую бутылку подсолнечного масла. Все же и он был добытчиком для семьи!
И тут ему встретился один интеллигентный молодой человек в очках, который, изучающее вглядевшись в него и представившись, назвался Степаном и спросил без обиняков:
– Вы откуда?
– Да вот… Ждем поезда на Энгельс, – Павел вкратце и понятно объяснился.
Степан живо сказал:
– Вы мне подходите. Поедемте!
– Куда? – удивился Павел сему приглашению.
В эту минуту посреди улицы к ним подошел бдительный милиционер и было скомандовал:
– Пройдемте со мной, молодые люди. Для проверки…
Тут-то Степин вынул из кармана правительственную телеграмму-приказ: «по дороге в Свердловск подбирать нужных для спецработ людей». Милиционер, прочтя телеграмму, отпустил без слов. Но с явным сожалением, что упустил какую-то выгоду.
В тот же день посчастливилось им: Степины и незнакомец Степан сели в непассажирский вагон поезда, шедшего вроде бы по маршруту в Оренбург, и они толком не знали (и никто не мог сказать) куда ехали, поскольку ведь не было прямой дороги в Оренбург; они просто ехали куда подальше от фронта, куда теперь поезд привезет. И поезд повернул на запад – уже на Куйбышев. В нечистом вагоне ехало несколько семей. Одна полноватая женщина, работница волжского завода, молчаливый ее муж с орденом Красной Звезды на лацкане пиджака. Еще некие женщины. Были и бочонки, крепкие, дубовые с какими-то солениями.
Однако они не доехали и до Куйбышева: на очередной станции состав опять повернул на восток и прополз какое-то расстояние.
Яна заумоляла пересесть на другой поезд, чтобы поехать прямо на Уфу, город, в котором ныне находилась ее сестра и могла быть для нее самой преподавательская работа: если таковой не будет срочно, то им не спастись от голода.
Так и сделали. Степан, поразмыслив, их отпустил.
Затем они доехали до станции Дема. Выгрузились на землю. Близко никакого прибежища для них не было. Одна дивчина из воинской части, ехавшей эшелоном на запад, сочувственно подкормила их, дав хлеба. До жилья одной домохозяйки, согласившейся их приютить на ночь, тяжело перекидками перекидывали еще порядочное количество вещей в узлах и мешках…
Погода установилась жестко-холодной.
– Холодно, Паша!, – сказала Яна, – вникни, что тебя могут позвать в армию, ведь бронь твоя уже недействительна. Давай побыстрей устраивайся куда-нибудь с работой. Харчи нужны всем.
Павел согласился. Все резонно.
Только, к огорчению, сходу ничего путевого не получалось. Как во всем. У нас в стране великой. И везде, наверное.
В образовательском отделе Уфы Яне отказали в трудоустройстве: на учительство (по истории) нет вакантных мест. Все занято. Расписано. И ее сестра эвакуированная уже не проживала в городе. Ее послали, смягчившись после отказа, поехать западней (к Ульяновску) по зигзагообразной железной дороге (проще пешком дойти!) до Туймазы. И Степины доехали сначала до Кинели (что под Куйбышевым), где и разузнали, что в Нижнетроицке есть десятилетка, в ней дирекствует замечательно эвакуированная ленинградка и пустует место историка: того взяли на фронт, что здесь также работает промышленное предприятие – леспромхоз.
– Ничего, прорвемся, – сказал тихо Павел. Он нередко теперь вспоминал эти слова Маслова.
– Что ты сказал? – переспросила Яна удивленно, расстроенная.
Добравшись до Туймазы, Яна пришла в исполком. Однако в Туймазы двое суток проваландались. Сначала начальства не было на месте. Потом была какая-то нелепая обструкция, когда Яна предложила свои услуги, умение.
– Зачем же вы сюда приехали? – такой издевательский, не иначе, вопрос мужчины вконец возмутил и оскорбил Яну, которую всюду до сих пор уважали и почитали, как хорошего знающего педагога.
Яна взорвалась – и почти с прежним стойким артистичным запалом, заговорила громко:
– Вы слышите меня? Я есть хочу! Я требую работу! У меня на руках двое ребятишек!
Она была права. Главное, именно она нуждалась в работе, чтобы спасти детей.
На этот крик сбежались женщины, отстранили от дальнейшего разговора, увели своего начальника-мужика.
Исполкомовские сотрудницы, пораскинув свою бухгалтерию (у каждого она своя) послали Яну в сытный колхоз. Мобилизовали мальчишек, сдающих продукты. Те предложили нарвать подсолнухов. Уральцы все понимали: сами-то теперь питались впроголодь.
Председатель колхоза – женщина послала Степиных на постой в избу к старому колхознику. Его жена не вынимала семечки подсолнуха изо рта – непрерывно, как жевательная машинка какая – лузгала и лузгала их. Лишь ночью этого не слышно и не видно было.
Степины в избе улеглись спать вповалку на полу.
На второй день пришел участковый:
– Ваш военный билет. Вы – Степин?
– Как сами Вы видите, – ответил покорно Павел. Но он уже встал в Туймазы на военный учет. Так что все было в порядке в этом отношении. Не придраться к нему.
Непорядок, безусловно, был в том, что Павел еще красовался в перезапачканных всякой дорожной грязью брюках, которые он за неимением времени на то, не успел еще сменить на себе. Хотя ему и самому-то это казалось потешным, особенно в тутошних оседловых местах, в которых уже успело закрепиться за ним определение «дядя в белых штанах».
Через пару дней для Яны пришла бумага, в ней сообщалось, что в Нижнетроицке требуется педагог. И Яну повезли туда на лошадке по разным, но одинаково разбитым грязным, как водится у нас на Руси дорогам. Лошадку председательница выделила, поскольку она устраивала в школу своего малыша (из Туймазы) и еще одного, живущего в колхозе, у нее.
А Павлу пришлось вместе с колхозниками убирать картофель, оставшийся в поле.
VIII
Деревни у татар – как бы дело пробное; их жители еще стыдились работать как колхозники и колхозницы. И еще не приноровились к четкости и слаженности в такой работе на земле.
Павел пришел к директору леспромхоза.
Тот – плотный дремучий мужик, с пронизывающим взглядом, как пан, изображенный на картинке Врубеля, – был действительно крутой по характеру: он всех своих мастеров сдал в солдаты.
– Лес валить можешь? – нетерпеливо спросил он у Павла, который едва представился ему. – А лошадь запрягать можешь? А если она в буран распряжется? Ну, так и быть, беру: ты будешь находкой для меня…
– Почему находкой? – нашелся Павел.
– Да потому… И директор, чуваш, но с русским именем Тимофей Рубчихин, в каком-то расположении к нему образно объяснил, что если бы он увидел, что на кладбище торчат из-под земли чьи-то ноги, то он выдернул бы сам труп наверх и заставил бы его работать – такая надобность была в рабочей силе – была повсюду.
Павел назначен был бригадиром. В леспромхозе работало около 80 человек. Они валили смешанный лес, растущий поблизости, а из него, точнее – из березы вырабатывалась авиафанера, в которой нынче была крайняя необходимость.
Эта справная татарская деревня делилась овражком пополам. Здешняя ребетня зимним днем устроила снежные ухабы на спуске, невидимые сверху. Люба и Толя, катаясь, здесь слетели на детских повальнях вниз – и вот, ляпнувшись на злополучных торосах с лету, ужасно (в кровь) разбились. Копчик сильно ушибли, когда падали. Санки, вдребезги разломавшись, отлетели в сторону. Дети, кое-как придя в себя и охая, и собрав обломки санок, все-таки самостоятельно выбрались, поднялись наверх. И, хотя было морозно, они не сразу пошли обратно в дом, боясь родительской суровости. Толя испугался за сестренкины ушибы. Он-то был постарше ее. Да не уследил, как нужно. Он не помнил, что было дальше.
Яна же хорошо помнила, что ее в деревне угнетала грязь. Это не могло не угнетать после-то чистых каменных тротуаров городских, в порядке выстроенных улиц продуманных. Были у нее своеобразные галошики. Она надевала их на носки. Однако ее ноги всегда почему-то были мокрые – как вроде бы в воде.
Степины, оживляясь, завели козу с козлятами и поросенка. Овцы были в доме, в закутке.
– Посмотри за поросенком! – велела Яна Любе.
А тот рылом поддал запор и выскочил за оградку, поддал Любе рылом, и та упала в грязь. Повыпачкалась вся. И ее же отругали. Поросенка с шумом, спотыкаясь, ловили.
У Любы воспалились глаза – был конъюнктивит. За ночь заплывали гноем глаза – она не могла их разлепить и плакала, жаловалась: «Мамочка, я буду видеть?» Альбуцита или еще каких-нибудь глазных капель не было под рукой. Да к тому же, надо признать, Яна была невежественной даже в медицинских вопросах – в них ей тайн никто не открывал, не учил что-то врачевать.
Мать не засекла, но Люба, кроха, тайком в одном платьице в сорокаградусный мороз бегала к чувашам, куда не пускали ее родители.
Крестьяне носили плетеные лапти, и Люба возила по дороге большой лапоть на веревочке и собирала в него кудельки валявшего сена и кормила им козлят. Также кормила она и кобылу Карюху, умную, с карими глазами, говорящими: «Лучше меня никого на свете нет». С блестевшим крупом, она без страха и стопора спускалась с любой горы. Видно, жить хотела. И она из Любиных рук брала губами корм.
Сначала сам Тимофей Рубчихин разъезжал на ней. Вскоре передал ее Павлу.
Павлу выделяли колхозников с лошадьми, с пилами. Березы разрезали, подвозили к Белебею, Туймазы и т.п. Все подчинялись, как и сам бригадир, Окташу – лесопункту (а таких было несколько). Следовало еще грузить лесоповал. Степин получил телефонограмму: «Окташ. Степин, с получением сего организовать погрузку фанеры!» Он брал мешок с продуктами, садился на кобылу, ехал и где-то организовывал ту самую погрузку. Было нелегко. Колхозники, в основном девчонки иногда пищали от невыносимости условий, но дело делали.
Зимой работали со светла до светла. Иногда замерзали. И у татар, известно, святой порядок: хозяин сидел на нарах, а бабы ездили, все терпя.
Вот бросили их, работяг на делянку у «Веселой рощи», что находилась в 5 километрах от Белебея. Делянка – один километр на полтора. «Веселая роща» – это русская деревня. Мужиков в ней мало. Подростки, либо женщины. Инвалиды огрызались. Непросто было подступиться к каждому лицу.
Значит, месяца три прошло, как оказались тут, в «Веселой роще». Степин был безграмотный в лесной вырубке. Сказал начальникам:
– Когда вырубим «Веселую рощу», тогда и отчитаемся, сколько какой колхоз вырубил.
– Нет, нужен отчет о том, как организована вырубка, через неделю-полторы, – возразили ему. И он смирился, кумекая, как лучше все организовать.
Степин не сопротивлялся. Размышлял.
В окрестных селах бабы да ребятишки – вся его рабочая сила. Ее надо кормить хотя бы дважды в сутки. Одна избенка здесь пустовала, отсвечивала. С печкой кирпичной, остылой, не действующей. С ее давнишним хозяином переговорили, по-ладному договорились; старый кирпич перебрали, перетаскали в кухню – выложили печку в кухне – и так наладили в комнате столовую.
Однажды Рубчихин прислал Степину телеграмму:
– Явись в леспромхоз с документами!
– Ты, оказывается, еще плут! – встретил его Рубчихин с раздражением. – Райвоенкомат сказал мне: «Такой у нас не числится..» Поехали – сам поеду с тобой. Проверю.
И сами военкоматовцы в Туймазы не нашли карточку Степина. Куда-то ее, видно, засунули. Написали новую. А при очередной мобилизации повестку ему послали то ли в Окташ, то ли еще куда-то. А в это время Степин неделями не выезжал из какого-нибудь лесопункта, находясь в двадцати-двадцати пяти километрах от самого леспромхоза. И когда заезжал в военкомат, там его лишь укоряли:
– Ну что ж ты, дорогой, через неделю показался! Уж в другой раз непременно пришлем повестку.
IX
Получалось, что действительно его спасала от несения сейчас военной службы эта отдаленность и разобщенность какая-то определенная. По сути он сам себе – он и подвластный – была как бы сама власть. Так вышло.
Следом и новую лесную делянку нашли. Метчики ее разметили. Построили близ нее маленькую станцию, спецсклад. Но до конца ее вырубки Степин не дождался – нужно стало новую открывать – совсем в другом месте – Кондры, Югазы и т.е. (все татарские названия); нужно было снова собрать работающих, организовать их, кормить, лечить, слышать их. И руководил всем этим все тот же пан Рубчихин, посматривающий на тебя изучающе.
Поэтому Степин частенько бывал у секретаря райкома, украинца, председателя исполкома, когда не обеспечивались хлебом рабочие или были какие-либо неувязки, препоны.. Это было уже весной 1943 года, когда немцев снова погнали на запад, разгромив их под Сталинградом.
А летом Степина назначили директором лесопункта, причалившего к селу Болтай, которое растянулось на 3 километра.
И новым директором леспромхоза стал татарин, поспокойней прежнего. Главным инженером работал заика-еврей. Но пришел и русский замполит, израненный, ершистый, с характером худшим, чем у самого Степина. Они крепко поскандалили между собой.
– Отправить его в армию! – распорядился бывший офицер. – Пусть научится элементарной дисциплине!
Увольняемый не стал перечить. Коса нашла на камень.
С этим настроением он пришел в военкомат.
– Что ж так поздно? – тихо проговорил военком. – Всех уже отправили.. А куда ж тебя.. – И досказал как бы с понятливостью. – Вот в Белебее просят на машзавод толкового старого технолога. Сходи туда, выясни.
– Обязательно! – Степин и не заметил, как после этого отмахал все сорок километров.
Заявился к директору машзавода, умному татарину, с которым он вроде бы был знаком (и тот его знал), и лишь кратко сказал, как доложился:
– Я освободился от леспромхоза. Нужен?
– О-о, нужен! – обрадовался тот, приветствуя. – Еще как! Давай!
Ему сделали бронь – выдали бумагу с красным кантом.
– Как быть с семьей? – спросил он тощего главного инженера.
– А зачем? – парировал тот сразу всерьез. – Тут можешь найти жену.
Оттого ему с директором пришлось договариваться насчет одного свободного грузовика, чтобы перевезти сюда семью.
И он вновь вернулся в Окташ – в военкомат для того, чтобы здесь засвидетельствовали полученную им бронь и больше не множили призывные повестки на него. И майор тут даже повеселел неизвестно отчего:
– Вот теперь хорошо. Давай в Белебей живо! А то люди нам позарез нужны. Головастые..
Перед этим в Окташе Степины занимали некоторое время комнату и кухоньку в избе, в которой жила хозяйка с сыном-подростком, а затем делили домик напополам с другой семьей. Отдельно располагался лесопункт. Были баня, магазин в поселке. И свой земельный участок, на котором выращивали овощи.
Был детский сад. Но снежной зимой у Любы разболелись ножки от авитаминоза: у нее от коленок до ступней образовались ранки – короста. Дома она сидела и спала в отдельной кроватке. И Яна по утрам носила ее в садик, мешая сугробы, и просила каждый раз нянечек не снимать с нее чулки, а сама уходила в школу, стоявшую в километре отсюда, на занятия с учениками. И Толя сюда ежедневно ходил с тетрадками, с книжками…
В поселке Степины пока жили, обросли целым фермерским хозяйством: у них, были поросенок и коза, капуста и одной только картошки около 40 пудов, что они ввечеру погрузили в прибывший заводской грузовик, в который они и сами погрузились и в котором доехали до Белебея сносно.
В Билибее они частном образом сняли комнату вместе с кухней и коридором. Хозяин ее требовал дрова в уплату. Еженедельно Яна меняла на местном рыке белье на необходимые семье продукты.
Здесь они дожили до конца 1945 года. Директор завода сказал Павлу: дескать, меня не отпускают на Украину и я тебя не отпущу домой, сколько не проси. А главный инженер, зараза партийная, околорайкомовская, вертячая, не преминул лягнуть его, поставив условие:
– Поезжай за металлом, отгрузишь его – отпущу тогда; все равно из тебя хорошего работника не выйдет, ты сам себя знаешь…
Павел, огрызнувшись напоследок, но терпя такую напраслину, поехал за металлом, отгрузил его, а после того аж целые сутки бесцельно просидел на печи у жены начальника железнодорожной станции Оксаково (и та ему запомнилась), поджидая прибытия поезда.
Для такого же рода эвакуированных жителей Ленинграда уже действовало придуманное правило: разрешалось вернуться в город лишь тем гражданам, кто имел прежнюю жилую площадь, а кроме того – вызов с места прежнего жительства. Сущее крючкотворство. Поскольку ведь никакой же документальной жактовской выписки при выезде не существовало! Ни у кого!