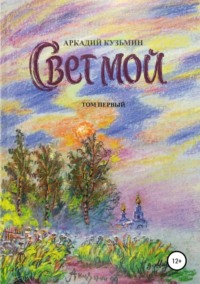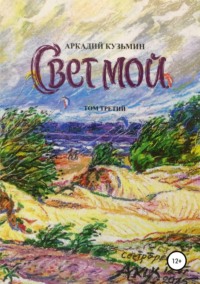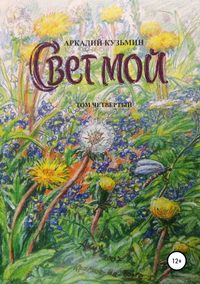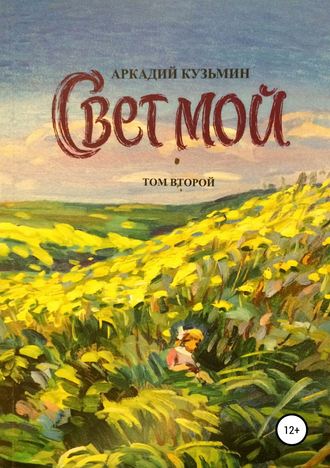 полная версия
полная версияСвет мой. Том 2
Был уж полдень, все благополучно. В том смысле, что схоронившихся сельчан в избе не тревожили. И Большая Марья, сидя на табуретке, заведено-громко рассказывала что-то; Анна, взглядывая за окна, ее поправляла и просила говорить потише, но та, понизив голос, тотчас его повышала бесконтрольно, чем ребята забавлялись.
– Но, видишь ли… – лишь начала Анна в ответ, глядя в окно, как тут же тревожно замолчала: на улице вновь показались немцы. Что-то будет? Один из солдат торнулся в дверь крыльца, потом отошел в раздумье на два шага, скользнул по окнам взглядом.
– Девки, прячьтесь! Ну! Скорей!
Одна за другой Наташа, Ира, Ксения, Тамара и Клава нырнули в подпол и закрылись там. Все затихли напряженно; слышалось лишь тиканье запущенных ходиков, отстукивавших время без хозяев.
– Может, открыть лучше? – Антон обвел всех глазами. – Я схожу.
– Стой! Может, он уйдет, сынок… О, господи! Пронеси его… Молю…
Но тут солдат дважды ударом приклада сотряс крыльцо, а потом еще. Звякнула щеколда, дверь распахнулась, бухнувшись. Загромыхали сапоги по половицам. Взошли на порог грузновато.
Все в избе застыли.
– О! – с удивлением издал серый, точно выдравшийся весь из пепла и свинца, громовержец, только вперся на затоптанный порог. Во всем своем солдатском облачении.
Он не ожидал, наверное, увидеть полный дом жильцов. Дом, который был заперт и в который он вломился запросто. Это было для него диковинно.
И, входя, с надменностью туда-сюда зашарил истуканьим своим взглядом; и, промаршировав затем на кухню, заглянул бесцеремонно в чугунки, на полки и под лавку и понюхал еще воздух по-собачьи – выяснял, должно быть, что там лежит плохо, что прибрать-то к рукам можно; и, разочарованный, подавил в себе холодную усмешку образованно догадливого человека: Анна даже руки распростерла – загораживала от него ли, от его худого ли глаза детушек, которые елозя по полу, играли в куклы самодельные, тряпичные и, играя, разговаривая с ними, на манер больших, тоже бережно и ласково всячески остерегали их от чужих солдат и самолетов. Вот такое было у них детство незавидное. Загнанное, беззащитно-ломкое.
Антон, что колол топором полено – на лучину для растопки печки, бросил сипло:
– Что камраду надо?
Вырвалось невольно у него. Немец развернулся и по-русски отчеканил сразу:
– А что нужно мне, то я и возьму. – И нелюбезно ткнул сидевшего на корточках Антона автоматом в грудь: – Ты кто тут есть? Может, партизан? Признавайся! Партизан?
Братья Кашины уж немало попадали в переплет.
– Партизан!? Какой я партизан!? Разве же не видно? – И Антон продолжал колоть лучину.
– Я не вижу, – громовержец напирал.
– Мое! Мое! – Анна, кинувшись к сыну на выручку и закрывая собой его, прижимала руки к сердцу, чтоб понятнее извергу было. – У меня, у матери, есть дети маленькие, не разбойники; и у вас, наверное, есть тоже маленькие дети, да? Вы-то их жалеете, камрад?
– О, да! – сказал вломившийся. – Ja. Ja. Жаль… – недобро ухмыльнулся.
С громыханием укатился снова, даже не прикрыв за собою дверь.
– Этя ктё? Этя ктё? – прижимаясь к плечу Большой Марьи, как в горячке, спрашивал у ней Кирилл.
– Спи, спи, солнышко мое, – убаюкивала мать его. – Дяденька пришел и уже ушел. Спи спокойно, не пугайся, грибок мой.
– Мамуленька, а немец нас опять не забелеет? – спрашивала Танечка.
– Не приведи бог, ангел, что ты! – ужаснулась, вздрагивая, Анна. – Фу! Это… с ума сойдешь… Партизан!
Анна, все еще как-то сжавшись вся, точно ожидая постоянно нависшего удара, готового всегда сорваться, беспокойно ерзала по избе и заглядывала на улицу в окна: она совсем еще не отошла от захолонувшего в сердце ужаса при виде вломившегося сюда живодера, стоявшего в ее глазах, да при одной только мысли о том, что могло здесь произойти сейчас, вот только что.
– Там, Антон, надо бы опять дверь закрыть покрепче – на пробой или подпереть… Коли снова торгнутся, задребезжит – хоть услышим это, так оповестимся загодя… Девки, вылезайте из подпола!..
Как же дешево, не ставя ни во что, ценят эти ироды вооруженные любую человеческую жизнь: можно ею поплатиться за один лишь взгляд или слово, брошенное необдуманно, или даже просто так – из-за прихоти такой, блажи дикой, необузданной. До чего ж нелегко было ей, маломощной матери, и чего ж ей только стоило сначала выносить в животе своем, а потом вскормить, поднять и его, Антона и как, оказывается, непростительно легко и быстро она могла его потерять, лишиться, разуму вопреки: дело-то всего минутное или даже проще. Это не укладывалось в голове ее, сознание протестовало.
Анне вспомнилось: принесли его из роддома, а он отчего-то грудь не берет, не сосет; нацедит она ему молока – то и сосет сквозь соску, чмокает; встает она рано утром к печке – малыш на плече у нее лежит. Скосит она взгляд свой на него – посмотрит: один глазочек у него открыт, а другой прикрыт, – не спит уже, значит. Сдуру-то она уж и дымом печным его окуривала. Дурность изгоняла. От невежества, конечно. Темноты людской. Бескультурье было. Раньше все так – в один голос – говорили, что надо ребенка заколдованного обязательно очистить от дурности дымом. Вот как она затопит печь, дым потянется в трубу, так она и ставит его, поддерживая, туда, – с благословления нашептывателей. Безответственных. И потом носила его так же, как носила и других детей до этого, под насест куриный. По тем же наущениям. Темечко у него не зарастало что-то долго. Так боялась, что проткнется невзначай.
Анна с ним и к бабкам хаживала – прежде с медициной было плохо, неустроенно. И одна бабка-божительница немедля вынесла ему суровый приговор – что у ней никак не жилец на белом свете: только до восьми лет дотянет… А другая пророчица, старушенция приятная, чистая, с острыми, шустрыми глазами, как развернула одеяльце и пеленки, нежно подняла его под матицу, так и проговорила: «Голубушка, да он у тебя во-о еще каким героем будет!» Тем маленько Анну обнадежила и распрямила.
Потом, заговорив, Антон поначалу закартавил: четко не выговаривал, несмотря ни на что, букву «л». Ничто не помогало. Начались у матери новые волнения, беспокойства и сомнения. Анна спрашивала у него: «Может, ты пока не будешь ходить в школу? Больно мал ты по сравнению с другими школьниками: тебе семи годочков еще нет – шесть с половиной ровно». Но он упрямился (самостоятельность его заела с самого раннего возраста), не соглашался: «Нет, мне в шкое учше, интеесно». Ну, если «учше», так пусть «учше». Оставили его в школе. Зато учительница – хотя и по-доброму, видно, – отшучивалась перед красневшими родителями на родительском собрании – говорила, что у нее одни ученики с дефектной речью: кто «л» не произносит, кто «р», кто еще что – какой-нибудь звук, а кто заикается даже.
V
Между тем после того, как беглецы закрылись вновь, напряжение чуть спало, улеглось, и хотя там, за стенами, такими ненадежными, все не прекращалась какая-то пугающе длинная возня и перемещение масс отступавшего неприятеля, в избу вдруг вкатилось (надо полагать, само собой) легкое веселье; оно захватило всех врасплох, окутало, что туманком, как ни протирай глаза от удивления и не ищи вокруг известные или хоть какие-нибудь приметы. Оно благодатно расслабляло скованный, пооббитый бедами организм. Как будто не было теперь ни у кого всех мучительно выматывавших невзгод, томительного ожидания чего-то под страхом смерти, ноющей (у Саши) боли, мешавшей порою дышать, делать глубокие вдохи или просто двигать ногами.
Анна отошла немного:
– У меня аж дыхание сперло, – как все развеселились буйно.
Видимо, смешинки в рот попали. Не без этого. Наташа засмешила всех, подхватив:
– Ой, помню в нашей школе сельской, что открылась по соседству с нами, в доме раскулаченной семьи дяди Трофима, мы хором – всем классом – продекламировали стих (конечно, не нарочно, а так переврали – по-смешному): «В заду дыханье сперло». И учительница обалдело уставилась на нас, а мы – на нее. Немая сцена длилась. Нечего сказать, мы были оторвы – ой какие! Раз Нина Петровна нам велит: «Скворцова, Кашина – в угол!» Та встала. А я нахмурилась, брови сдвинула: «Не пойду в угол!» – «Тогда книжки отдай!» – «Не отдам». Подошел староста класса, я вцепилась в свои книжки. А перед учительницей, Ниной Петровной, вроде неудобно все же так – отдала ей две. Скворцова в углу хнычет: «Нина Петровна, отдайте книжки, дальше мы не будем…» А я – нет. Говорю: «Платили, платили деньги за книжки… Отдавайте тогда деньги». Нина Петровна вынимает по три рубля, отдает Скворцовой и мне. Говорю ей: «Зачем же деньги, отдавайте лучше книжки». Не отдает. Вот пришел отец домой с работы, а меня еще нет с ученья дома. Сюда, в школу, зашел. Учительница так, мол, и так. Отдала ему мои книжки. Ну, и всыпал он мне по первое число, что надолго запомнила.
Тогда в третьем классе учились вместе с нами, малявками, уже семнадцати-восемнадцатилетние. А учителя потом прислали к нам молодого и живого. Он хотел однажды наказать ученика, а тот, сидя за партой, как заорет на него: «Уйди, Гриша, от казенки!» И я приложилась: раз ему рукава оторвала. У пиджака. Повозиться с нами любил он в переменки. Мы на руках его висели – катались. Я-то ухватилась так неудачно – и рукав затрещал запросто. Учитель мне и говорит: «Ну, вот что, девонька, оторвала – теперь пришивай». – «Ну, говорю, была нужда: сам катал, сам и пришивай». Тогда пришила ему оторванный рукав наша добрая нянечка.
Вот какая я дура и баламутка была. И ведь есть-то дурра.
Затем вспомнили то, как все после тифа, выздоравливая, насилу учились ходить – ни у кого не слушались ноги. Антон еще бредил: «Ой, надо же: опять исчезли!» (Оказывается, камушки к зажигалкам – помешались ребята на них). Или вскакивал: «Ой, где же он? Только что здесь был…» – «Кто, Антоша?..» – «Да хлеб, тетя Поля принесла. Положила под мою подушку…» Ведь, как же, только и мечтали о еде (сидели и в окопах – мечтали эти полтора года: «Нет, после войны, когда настанет время хорошее, уже не будем ничего из вещей покупать, а только есть будем».
– Мам, скажи, – спросил Антон, – а что, папка наш батрачил до того, как он женился?
– Нет, сынок, – разуверила Анна, – он сроду не был батраком. Смолоду отец нашего отца, Данила Гаврилович, считался из порядочных. Был жестким, пьющим – страсть! Его, пьяного, обирала-обчищала вторая жена, мачеха Василия и Трофима…
– Это – бабка Степанида наша, что ль?!
– Ну, она тогда еще такой не была… И вот обирала его, а он приставал к детям – дескать, это они его обирали. Вот как. Умер он, когда Василию исполнилось одиннадцать лет. Он тоже, как и я, рос без родителей, считайте, – про это я вам говорила.
– А без матери с каких лет он остался? – спросила еще Наташа.
– С четырех. Тогда, значит, выгнанный Трофим с семейством своим поселился пока за плотиной у родственников и жил покамест там.
– А у Василия с мачехой, то есть бабкой Степанидой, кем она есть сейчас, после смерти его отца начались скандалы: обнов она ему не справляла. В юности он старался сам на себя заработать. Раз они схватились в рукопашную. Так, что мачеха сбежала из дому. Без дочери – Полины семилетней. Ну, та ночевала у своей товарки, Дарьи, несколько ночей, домой не приходила – не показывалась. А потом Василий работал на заводе и не уследил, когда она и Полю забрала к себе: однажды он приходит с работы, а сестры дома нет.
Они не возвращались к себе домой неделю-другую, и тогда Василий пригласил в избу брата Трофима с семьей. Трофим охотно согласился, переехал к Василию. Но и с Трофимом все разладилось вскоре. На Виденье привел Василий абрамковского Цыгана. Стали выпивать вместе с Трофимом. Керосиновая лампа стояла на краю стола. Василий вскоре невзначай зацепил рукой лампу – она упала на пол и разбилась. Вскочил тут Трофим – горячий был, как и папенька: «А-а, ты такой-сякой, приводишь тут всяких мужиков…» Давай делиться. И спешно тогда Трофим начал строиться рядом. Строился толково, очень основательно…
– Все потом прибрали к рукам, – сказала Дуня, констатируя.
– Когда же революция свершилась (стало о ней слышно) и дошла и к нам, Степаниде вдруг занадобилось – она в суд советский обратилась, подала бумагу, – рассказывала Анна далее.
– На кого же? На папку?
– Стало быть. Значит, на раздел с ним жилья – этой бывшей мужниной избы, из какой в бега пустилась. Выкрутасничала баба – ой! И тот суд, значит, ей одну только кухню присудил – лишь то, что на Полю, ее дочку от Гаврилы полагалось здесь, но не на нее саму, как владелицу-хозяйку, пришедшую, значит, на все готовое сюда, к мужу. Вот как, значит, обернулось. Она, известно, просчиталась: разыграла себя такой обиженной (она разыгрывать умела) перед обществом, перед властью и думала, наверно, что первым номером пойдет, а получилось – сама себя наказала, высекла. После этого-то они с Полей уже стали в кухне жить. Отгородились стенкой от Василия. А вскоре – в двадцать третьем году – Василий за меня посватался, и я ему дала свое согласие, вошла в его неновую разделенную избу – две передние комнаты без печки еще. Здесь семнадцать-то лет и прожила я с ним – добро наживала. Вот где моя родина, мое кровное гнездо. А меня хотят изгнать и загнать куда-то, господи! Твоя воля, господи! – И призналась Анна после того, как перекрестилась, – как-то жалобно-стыдливо: – Сейчас меня что-то тянет в церковь, как в кино, видать, других или как читать книжки приманчивые. Соскучила я. С детства меня туда тянуло. И боюсь до дрожи грозу, например. Наш-то дедушка религиозный был. Ой! Когда гроза, например, собиралась, он дома обязательно клал круглый хлеб на стол и заставлял всех креститься. Примета такая: и окна все закрещивал – крестил. Чтобы, значит, гроза не навредила. И сейчас на улице небывало великая гроза, потому и я сейчас крещусь, крещусь и дрожу. Ох, только обошлось бы все. Век молиться буду, клянусь.
VI
– Мам, а мам, – попросила опять Наташа, отвлекая, или привлекая ее внимание, – ты лучше расскажи нам о самом интересном – как вы с папкой познакомились. А?
– Доченька, а я, кажись, уже рассказывала вам под бомбежками. И почудилось будто покраснела чуточку Анна, или стушевалась несколько.
– Ну, никак не полностью. Так дорасскажи. Нам интересно это знать. Все равно сидим… Закаменеть ведь можно.
Анна начала:
– За год до замужества я ехала в телеге по Заказнику, где была дедова земля, и моя лошадка вдруг чего-то испугалась, взбрыкнула и понеслась по кустарнику, бездорожью напролом. Я вся потерялась вмиг, и вожжи из моих рук выпали… Только вдруг парень спереди схватил кобылку за узду и оглобли. Скомандова по-мужски: «Ну, не балуй! Не дури!» Она даже вздыбилась, попятилась, затанцевала. Был это Василий, ловкий, сильный, хоть и не великан вовсе, с мелкими чертами лица. В округе все драчуны его боялись, слушались всегда.
– Мы-то уже помним, – сказал Антон, – как к нему (под окна) приходили такие и клянчили: «Дядя Вася, отдай финку, я больше не буду…»
– А он в ту пору лес валил, возил, пилил, колол и продавал на рынке – один на паре лошадей. Ну, потом, когда я уже согласилась быть его женой, он обрадовался очень: он был стеснительный и совестливый и счел, что из-за его худой – бунтарской – славы уж никто из невестившихся девушек не пойдет за него замуж. И родители-то всех невест будут против. Нет, мои бабушка и дедушка тоже, как и я, изъявили свое согласие. Дедушка по-здравому, по-жизненному рассудил: «Счастье в ее руках – она сумеет с ним совладать. Она будет заместо матери для младших сестер своих». Так предугадано и стало. Сестры, как к матери заглядывали ко мне: «Анна, надо это сшить, или скроить; Анна, надо это сделать, помоги». Потом свои дети – вы – пошли. Один за другим. Люльку мне тетка Нюша дала – с отцепом. Двое на таком отцепе качались, двое – на жердине, какую Василий приладил, а трое потом (как и жердинка эта прикончилась) – в кроватке, собранной им же, отцом. Ты, Наташа, качала ее ногой – сама полетела в перековырку и кровать с Верой в перековырку. Думали, что Вера будет горбатой. По врачам сколько ходили, ой!
И не видала жизни я. Приданого у меня было мало, а у Василия – и того меньше. Гол сокол. Дедушка тогда еще сказал со смешком: «О-о, у нашей родни много везде знакомых; пойдет по ним Анна – по кусочку наберет, проживет». А Василий тут же и добавил: «И мне уж кусочек достанется-перепадет». Поедет он, бывало, в лес, навозит деревьев, нащепает дранку, продаст ее, и, глядишь, приобретем что-нибудь. И хозяйственный Трофим даже удивлялся на него, брата: «Вот какой молодой хозяин-то! Толковый!» Тот норовом угодил в отца: жену гонял, гонял детей. Опускался в водку, стекла бил. А Василий, если и выпьет, случалось, то не шумит, уляжется прямо на полу тихо-спокойно, не нужно за ним ухаживать – бузить не будет, все будет хорошо. Ну, а руки золотые. Ой! Все, что ни задумает, то и сделает, смастерит. И печку топил, и хлеб пек, и коров доил – когда я заболела. И говорил после: «Все буду делать, но коров доить больше не буду. Нет, хуже всего – корову доить». Конечно, руки мужские – не женские. Корова чувствует. Да сноровка нужна. И подход к той же скотине. Ласка, терпение.
С разговором этим Анна в точности забылась, где находится, и дрожать почти перестала. Глаза у ней чисто засветились, заблуждал на лице легкий румянец. Любо-дорого было ее слушать.
– А потом бабка Степанида с тетей Полей построились напротив? – спросил Антон.
– Да, в тридцать пятом, или тридцать шестом уже году. Папка ваш дал им отступного – выплату за кухню; они и наглядели сруб, перевезли его сюда.
– Да, попозже, мам, немножко.
– Может быть, сынок, не спорю. Всего ведь не упомнишь подлинно: в памяти мешается.
– Потому как знаю то, что мы ученики, ходившие в эту школу именно – то есть в дом этого дяди Трофима сосланного – еще бегали сюда, к стройке, на переменках и еще месили ногами глину, раствор, для печки тети Полиной. Много было глины.
– Ну-ну!
– Зато и оделяла нас тетя Поля довисевшими спелыми, черными сливами, такими вкусными, каких я сроду не ел. У нас-то в огороде, они не успевали дозревать: дозреть им было некогда, – все правильно.
Кто-то рассмеялся на Антоновы слова.
– А ты помнишь, сынок, – разговорилась заинтересованно Анна, – что вы с ней же, тетей Полей, тогда вообще дружились так, что не разлей водой, и ты за ней таскался по укосам лет что-то с пяти – все природой восторгался? Тебе и матери тогда не нужно было. И она, бывало, пихала тебе булочку или гостинчик, или сахарину, тогда как ее болтавшийся уже сынок, Толя, покашивался на тебя неодобрительно; совала она это и сквозь нашу отдушину-прорез в бревенчатой стене, какой сообщались мы друг с другом семьями, если что затребуется. Бревно было просто выпелено, и затычкой-бруском деревянным затыкалось, и вот, как то, так взаймы передавала хлеб и соль, и масло льняное, когда оно было, и что-нибудь там еще, что нужно. Не-не, не скажу, Поля и Василий на редкость ладили во всем, во всех делах; он ей помогал и план вспахать, и она его слушалась и почитала очень.
Я так думаю, что, наверно, тетя Поля со своей ворчливой, шамкающей Степанидой давно уже дома, приехадчи; наверно, на теплой печке лежит – греется и ждет – не дождется нас. Как судьба нас разметала! Даже и не верится… До сих пор мне не верится. Нет, это не со мной… не с нами…
VII
А тем временем на воле громоздко-слышно двигались войска чужие.
Лежа на соломенной подстилке, побледневший, сникший Саша, казалось, еще болезненней морщился от этих доносившихся звуков: сколько он теперь ни отдыхал, полеживая, у него все так же, если не хуже, болели бока, легкие и ноги распухшие, что он стискивал даже зубы, когда вставал и ходил. Что значит: восемь ночей февральских, пронзительных поспали в той конюшне на елках, у самой двери дырастой. Там, должно, и прохватило особенно его. А лечить-то нечем, негде и некому. Как же дальше идти теперь? Ой, все сложно и все тяжело.
И никто тогда даже представить себе не мог, что впоследствии обнаружится у него, Александра. Спустя десять лет, его по призванию на службу в Советскую Армию вскорости демобилизуют, как непригодного к ней: остались у него от этих дней рубцы на легких. Вот какая крепкая натура: хоть и с зарубками внутри, но не сломилась совсем, выдюжила все-таки.
У ребят, у взрослых чесались уже покраснело-обшершавленные и потрескавшиеся, цыпками покрывшиеся руки и, что необычно, даже некого ругнуть за неряшество допущенное, недогляд. На иное сейчас было направлено все внимание, все помыслы и расходовались силы. Оттого, по-видимому, и Большая Марья будто еще нежней прижимала к себе лопотавший живой комочек в одеяле и, укладывая спать, сидя на коленях, как бы позабывчиво – обо всех – ласкала:
– Мой хорошенький, мой хутулечек! Мой хутулешный малыш! Ти-ри-ри, ти-ри-ри, та-ра-ра, та-ра-ра… Поурчи, поурчи, хорошенький…
«Каково-то малолетним маяться, – опять задумалась Анна после, когда вполголоса, душевно-тонко, казалось ей, напевала Наташа свой любимый, светивший ей «костер», романс, а Ира, распустив чудесные, доставшиеся от своей матери, темно-каштановые волосы, в страдальческо-тоскующем напряжении (от песни еще) ушивала что-то. – Взрослым проще. Но избяные стены не спасают нас, не отгораживают неприступно от ворогов, от ужаса. Хилое прибежище в войну. Сколько ж все-таки пришлось нам перемыкаться везде, заночевывать в окопах – почти каждую ноченьку, когда бомбили немцы, и потом, когда бомбить стали уже наши; сколько ж нам пришлось прожить и в тесной удушливой, как вся теперешняя жизнь, землянке, которую часто заносило снегом и приходилось утром разгребать, чтобы выползти из нее на свет божий. Что и говорить, натерпелись мы всего-всякого. Сполна. По гроб жизни хватит. И житейски вроде оправданно это. Во всяком случае извечная мудрость отмечает так: не увидишь, мол, горького, не попробуешь и сладкого. Но эта-то философия житейская, философия народная отдает прежде всего дань выстраданному или возможному; она заставляет нас размышлять, подводить некие балансы, так сказать. Свой ум – царь в голове (если есть, конечно, он). Это точно. Но понатерпелись все мы, русские, все-таки не потому, что этого хотели как-то или были до того ленивы или неудачливы, что не смогли, как ни хотели, отвратить от себя такой беды, а только потому, естественно, что родились в свое время, не в другое, – в это-то губительное время и попали в колесо всепожирающей и оглушающей войны, вот и все. Вина лежит на тех, кто раскрутил его что было сил. Самых дурных. И поэтому также страдает Ирочка поныне – по убитому возлюбленному. Любовь к ним пришла не вовремя. Для чего же, собственно, мы родились и страдаем? Важно верить…» И зашлась, заойкала:
– Ой-ой-ой! Ну, Наташа, Дуня… Помнит кто-нибудь, какое же нынче число?
Отлипнув от стекол оконных, еще заледенелых вполовину, быстро распрямилась Дуня (ее сынуля Славик, укутанный на совесть, спал безмятежно на полу – бочком):
– Ты что, Макаровна?! Второе марта, кажется…
– Что, маленький, что, маленький? – склоняясь, все наговаривала в забвении Большая Марья. – Глазки закрывай. Баю-баюшки-баю… Придет серенький волчок…
– И забыла, и забыла я совсем, доченька моя, Наташенька!..
Та, тоже всполошась, перестала петь; глянула с недоумением: что запричитала?
– Ведь ты именно второго марта родилась. День рождения!…
– О-о, как славно! Музыка какая… – На Наташу накатился вдруг настоящий приступ буйного, хотя и негромкого смеха, прерывавшего ее, что ни Ира, ни Гриша, ни Тамара и ни Тоня Макаровы, вообще не знавшие теперь за мачехой даже того, чтобы хотя изредка так же вспоминать о собственных там именинах, совершенно сейчас не знали, как отреагировать на ее эту внезапную смешливость – только хлопали на нее, что называется, глазами. – Ну, такая музыка… Мне вовсе ни к чему сейчас… До чего ж это смешно звучит: сегодня – мой день рождения… А где же, спрашивается, он?..
– Война, доченька, заодно слизала языком. Еще моли богу, что мы сами выбрались оттуда, пока целы. Ведь на нас-то одежонка кое-как латаная, драная, обувинка тоже кой– какая – мыслимо ли нам дальнюю тернистую дорогу преодолеть и выдержать?
– Да, навряд ли. Что ты! Но насчет того, что «выбрались», по-моему, мамуля, еще рановато говорить. Дай окончательно домой добраться. Вот тогда – действительно…
– Ну, все-таки, не говори: обсушились, обогрелись тут и поели кое-что – и воскресли словно, что еще смеемся над собой, – говорила Анна убежденней прежнего. – Только б Саше полегчало… надо же…
Однако она вскоре доложилась детям так:
– Ну, сегодня я не буду спать и не ложусь! Мне предсказываться будто стало, чтоб не спать. Меня снова в жар кидает, господи; что-то страшно мне совсем! Эти еще вроде ползают под окнами, а наши почему-то не палят – не дают нам знак. Конец всему, что ли, скоро (может, этой ночью) будет? Душа ноет так. Да, я чувствую нутром своим: война меня убила до того, что радостной минуты у меня уже не будет никогда; никогда ее не будет, как я ни надеялась еще. Хоть бы книжку почитать какую поскорей. Вся истосковалась ведь. А в книжке, может, я нашла б другую жизнь – и ушла б, ушла б туда…