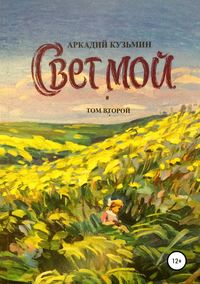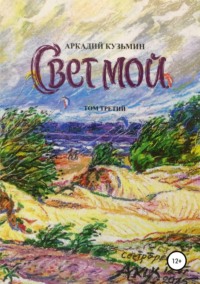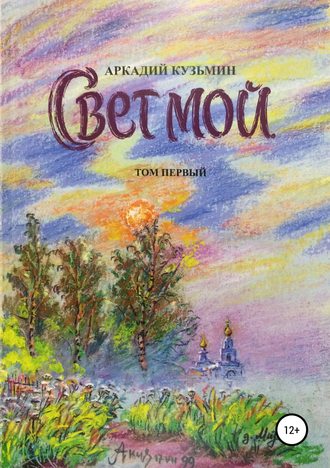 полная версия
полная версияСвет мой. Том 1
Но, может, лично у него, Антона, заведомо несусветные претензии на этот счет имеются потому, что он еще не воспитан эстетически, философски не развит и, стало быть, пока не дорос до истинного понимания таких тонких, деликатных вещей? Однако оттого у него возникало не меньше вопросов к самому себе. Самых различных. И почти всегда не разрешимых. Что его и удручало всерьез. Бессовестно.
Антон, третий в семье ребенок (всего семеро детей родилось), с сызмальства проявлял ребячью особенность. Так, по ночам, он нередко спал с беспокойными грезами, отчего даже падал с палатей; вставал же раненько – чуть забрезживал рассвет, точно боялся пропустить – и не увидеть – нечто-нечто сказочное, еще невиданное никем. А днем он с тех самых пор, как помнит себя, не спал никогда – не хотел и не принуждал себя поспать, когда даже и уставал. Отчасти только поэтому он и не пошел в детский сад, открывшийся в соседской крайней избе, только что конфискованной, выходит, за просто так у раскулаченного дяди Трофима; не пошел, несмотря на родительские уговоры, и упирался раз что есть сил, когда в шутку молодые задорные нянечки попытались, схватив его и смеясь, затащить туда, в помещение. К тому времени, мнилось ему, он уже самолично мог решить, как ему быть и поступать иногда; потому он уже активно сопротивлялся очевидному насилию и со стороны взрослых, кто бы то ни был.
Он очень рано – один бог ведает, почему, – начал рисовать. Возможно, по какому-то наитию, стечению обстоятельств; это пристрастие пришло к нему еще раньше, чем раскулачили дядю Трофима, когда еще тот, буйный в пьянстве, возвращаясь в очередной раз домой, еще издали громко вопрошал у своих домочадцев: «Вот я иду! Рады вы мне или нет, признавайтесь?!» И ежели слышал в ответ от жены непокорной: «Да черт рад тебе!» то начинал с угрозами гоняться за тремя большими сыновьями, бить посуду, попадавшую ему под руку, стекла. А утром, проспавшись, протрезвев, виновато волок со стекольщиком ящик стекла и стеклил окна заново. Вся же вина этого семейства, ставшего жертвой раскулачивания, состояла в том, что оно держало шаповальный станок и валяло валенки.
Но тогда Антон с восторгом в душе открывал величие и гармонию природы, которые он увидал, почувствовал, увязавшись с тетей Полей в ранние и поздние поездки по окрестностям на лохматой смирной лошадке. Еще до семи лет от роду, будучи в первом классе, он написал лозунг в школе о Первом Мае. А сочинительством занялся попозже, поначалу – с того, что расписывал, или уточнял, на полях акварелей быстро меняющиеся в природе цвета и оттенки многих предметов, вещей, чтобы успеть, угнаться, ухватить нужное. Зачем? От тщеславия – все запечатлеть? Для чего? Он и сам пока не знал, пригодится ли ему его такой наивный порыв. В моде ли еще сентиментальность?
Ефим угадал: Антон все сближался с Оленькой, переписываясь и встречаясь с ней постоянно в музеях, на выставках и концертах, и прогулках загородных, как, собственно, и Ефим и Мила, с которыми они нередко виделись, даже в Филармонии, но которые не жалуя друг друга задушевностью, не чувствуя влечения, действовали скорее по инерции первоначально сложившихся у них взаимоотношений. Вместе с тем все новые события, как будто убыстряясь, развивались волнообразно потоками, смешивались и неслись себе стихийно. И Антона захватил такой поток служебных проблем, связанных напрямую – парадоксально! – с занятием им творчеством, а точней – с начальственным непониманием этого его честолюбивого упрямства, не иначе. Здесь вовсе и не требовалось ни от кого-либо даже понимать буквально, есть ли оно, такое стремление, или нет (каждый сверчок знай свой шесток); глядеть при этом в рот и восторженно замирать, а ему-то, творящему, умасливать кого-то за это и еще горячо благодарить. Тем более, что возложенные на него основные обязанности – в роте он заведовал (как и Ефим в своей) так называемой Ленинской комнатой и отвечал за политинформацию, – он исполнял честно, исправно.
Однако, лишившись возможности регулярно писать натурные этюды и картины, а значит, и самостоятельно совершенствоваться в живописном ремесле, Антон начал исподволь упражняться в написании прозы. Как бы про запас. Он записывал услышанные диалоги, манеру разговора, образы, вел своеобразный дневник – не под влиянием чего-то меркантильного, а из-за насущной потребности тренировки загодя – в наблюдении перед тем как выйти на писательский простор. Кстати, это-то занятие не требовало никаких материалов, красок, кистей, этюдников, холстов или картонок, никаких помещений и пространств; написанное же на бумаге, что Антон никоим образом не афишировал ни перед кем, чтобы такое не всплыло напрасно раньше времени, можно было быстро, в случае чего, убрать куда-нибудь подальше от посторонних, любопытных глаз, хоть сунуть под подушку.
Но, выходит, этим самым Антон навлек на себя подозрение: начальство батальонное крайне всполошилось.
Очень славно балерина разбежалась…
V
– Итак, за дело, капитан: пока матрос Кашин у меня… Стоит в кабинете… обыщите его шкаф, – нервно говорил майским днем в телефонную трубку замполит, прилично-обходительный майор Маляров, изначальный душеприказчик Кашина, – наставлял приличнейшего Смолина, ротного. – Возьмите его записи… Я надеюсь на Вас… Иначе, боюсь, все мы загремим… Полетят у нас погоны…
– Чего-чего?! Попал в подозрение?! Сколь же смешно!.. – аж задохнулся от возмущения Антон – не агнец божий, отнюдь. Он не притворялся тихоней, нет, но не мог и вообразить себе суть банально начальственного недовольства им и еще подвоха с его вызовом, устроенным ради каких-то иллюзорных умозаключений, в общем-то, нормальным офицером, причем и хорошим, он не понаслышке знал, семьянином. – Так, позвольте, товарищ майор, я самолично выложу Вам свои пробные писания – пожалуйста… Коли взволновались насчет их… И я побегу, покуда там не сломали сдуру шкаф казенный… – И он, даже не испросив разрешения уйти, выскочил из кабинета. Сбежав по ступенькам со второго этажа, сиганул через заасфальтированный плац. Подумал: «А может, это – месть мне, ослушнику, отказавшемуся наляпать настенный модный нестоящий макет? Непохоже…»
Влетев в кубрик, он решительно заслонил собой шкаф, дверцей которой уже лязгали старшина и капитан – они пытались взломать внутренний замочек:
– Все! Хватит вам курочить вещь! Сам я отнесу… Охотно…
И взломщики, как-то пристыжено, потупив взгляд, отступили. И смылись.
Не раз случалось, что Антона с радостью и за шпиона принимали (все-таки он всюду рисовал), забирали в милицию. Притом и заодно, глядя на его рисунки, журили назидательно – мол, нехорошо, милейший, что рисуешь коровники, крытые соломой… Кстати, все праздные люди, кому ни лень, кто сам не создавал ничего материального, учили его, что и как нужно рисовать и писать; только трудолюбивые крестьяне, проходя мимо него, работавшего кистью или карандашом, всегда учтиво, с великим уважением, желали ему:
– Бог в помощь!
Было же, что летом 1945 года шестнадцатилетний Антон, прослужив два года в прифронтовой части, демобилизовался и стал работать рекламным художником в кинотеатрах, мастерских и одновременно учился в вечерней школе – восполнял четырехлетний перерыв (вследствие военных действий) в учебе. Он мечтал по окончании десятилетки поступить в Академию Художеств. Однако и снова прервалось учение. В 1949 году ржевские военкомовцы призвали его на Флот, причем бодро внушали, что ему несказанно повезло; они не хотели и слышать, и знать о том, что он-то уже воевал и имел награды (они сами ему их вручали). Был попросту недобор. А подошел призывный возраст – и баста!.. Ищи-свищи вдогонку справедливость…
На следующий день помполит Маляров, возвращая Антону стопку его исписанных листков, признался с явным разочарованием, или недоумением:
– Я не нашел в них знакомых фамилий, описания служебных событий, хотя почерк неразборчив – нарочно?.. Откуда ж ты все взял, переписал?
– Ниоткуда, – ответил Антон. – Из своей головы…
– Что, придумал сам?! – Майор округлил глаза, взаправду изумленный. – Ну, ты даешь!.. А зачем?
– Пишу пьесу. Рассказ…
– Не шутишь? Для чего? Зря, по-моему… Мучаться… Книжек столько на свете, что их не перечесть за век… – Тень непонимания, как легкого помрачения, легла на округло-розоватое, почти женственное лицо Малярова. Нет, он не желал ни малейшего зла никому. Это вскоре же подтвердилось.
Майор поручил Антону прочесть новобранцам свеженапечатанную в «Правде» статью Сталина «О вопросах языкознания». Но он засомневался: есть ли в этом смысл – восемь газетных полос, а ребята разны национально, не обучены грамоте; он сам прочел – и статья не очень-то завладела его вниманием. Имеются подшивки газет – разложены по столам; кто захочет, тот и сам полистает…
– Смотри, Кашин! – только и погрозил ему пальцем помполит. – Ты договоришься…
А затем должностные начальники и более серьезно покусились на его независимость: совсем неожиданно предложили ему учиться на срочно вводимых в экипаже офицерских курсах – сущее недоразумение для него. Все экипажное начальство уговаривало его подряд три дня, вызывая его к себе для очередной проработки и внушая ему, что так надобно нашему Флоту, нашей стране, и попутно пугая чем-то; он же отказывался наотрез становиться офицером, не раздумывая нисколько; он давно выбрал свою стезю, не намерен был сворачивать в сторону. Притом он как в своих суждениях, так и в поступках, всегда был независим, донельзя самокритичен, непреклонен во всем перед кем бы то ни было; действительно, чем больше на него наседали в чем-либо, кто бы то ни был, тем больший отпор получали от него. У него была только одна, он твердо знал, привилегия: быть просто художником – творить.
– Значит, ты меня бросаешь, – упрекнул его Иливицкий. – Одному мне отдуваться?
– Что не сообразно духу своему, ты считаешь, – в том не уступай, – заметил Кашин. – Защити себя. Попытка – не пытка…
– Легко говорить тебе – ты не боязлив, прешь себе на рожон…
– Ну, не хочешь перечить – кто ж виноват? Подставляйся, валяй…
Тем временем хмурый капитан Смолин вызвал в кабинет его и старшину первой статьи мощного Нечаева, дежурного по роте, и приказал тому взять двух матросов с карабинами и насильно – последнее средство – отконвоировать его, матроса Кашина, в курсантскую роту.
– Еще один бессмысленный приказ! – Антон ожесточился. – И ты, Мишка, выполнишь его – заарестуешь безрассудно друга своего?
Обескураженный Нечаев лишь растерянно пожал плечами.
– Подожди же, друг, не ввяжись в маразм и пока уйди-ка, не мешай, – говорил Антон: – Я обращаюсь к Вам, командир, боевому офицеру, участнику того штурмового перехода наших кораблей в сорок первом из Таллина в Кронштадт: – Вам угодно таким методом принуждать меня, юного участника войны, к согласию авантюрно играть роль в офицерское звание? Не коробит ли Вас самого от такой принудки? Ведь я осознанно еще в сорок третьем избежал участи быть в Суворовском училище и нисколько не жалею об этом. Уйма желающих найдется стать офицером. Без кнута. Не побойтесь отклонить нажим на Вас столь неправого начальства, только и всего.
И молодцеватый капитан, наливаясь краской, устало выслушал Кашина, вздохнул и отпустил его восвояси.
Безволицу пронесло!
VI
А затем Политуправление Балтфлота дало распоряжение: для подготовки предстоящей в Москве выставки работ флотских художников временно направлять днем в Базовый матросский клуб (Площадь Труда) матросов Иливицкого, Кашина и Старова. Тут и Иливицкого, на радость ему, выпустили из муштровой курсантской роты. Подфартило им? Лафа?
Этим не меньше их самих был доволен солидный Игорь Петрович, клубный гражданский руководитель, опекавший их. Он приговаривал, когда они собрались в клубе:
– Только не тушуйся, молодежь; все у вас получится на ять, поверьте. Смелей рискуйте… Итак, натяните холсты, проклейте, загрунтуйте их – вам такое не в новинку. И давайте: пишите маслом на славу все, что вам заблагорассудится. Несите сюда все свои эскизы, наброски, наработки… Посоветуемся, отберем и выставим что-то стоящее сначала здесь, в фойе; а уж отсюда потом и для Москвы отберутся ваши вещи какой-то – я надеюсь, профессиональной – комиссией.
На чистеньких холстах началась компоновка сюжетов. И вот пошло!
Матрос Алексей Старов – натура колоритная, уральская глыба – поистине мощно-пастозно (без подмалевки и лессировки) стал наносить сочные масляные краски на холст: на хмурое петербургское небо с лохмотьями облаков, на жирную исколесованную грязищу под ногами Петра I, шагавшего в окружении сановников, на его сурово-решительное лицо. Это проявлялось в умбровой гамме неподдельно, рельефно, реально, точно. И Алексей даже задышал шумно от столь тяжкого труда – наносить красочный слой за слоем. Он был почти на грани какого-то срыва. Как балансировал. Сильно возбужденный. Ефим Иливицкий, напротив, поглощенно водил кистью по палитре и картине, тоже стоявшей на мольберте, и напевал что-то для себя одного. Он поначалу изображал песчаный берег, или пляж, моря, с двумя причаленными лодками; однако затея была неудачной – он не различал цвета (был дальтоником), и оттого у него выходила просто выбеленная грязно-серая пейзажная живопись. Он и сам убедился в том воочию, отойдя от мольберта на шаг-два и прищурившись на свою работу. И сразу примолк. Раздосадовано швырнул холст на пол. Но тотчас же, вроде опомнившись, поднял его. И уже взялся компоновать другое – фигуры черноморцев-севастопольцев, бросающихся со связками гранат под фашистские танки. И в этой-то теперешней композиции все вырастало у него внушительно, живо, отчего он стал тихонько насвистывать какую-то мелодию.
Антон, работая кистью, старался не демонстрировать никому свой характер, хотя все большее недовольство самим собой овладевало им из-за того, что получалось у него на картине, вернее, получалось как-то не так, как предполагалось им, – необъяснимое противоречие. Он писал пейзаж со спеющей рожью, разливавшейся во всю ширь поля, с кучевыми облаками над ней, и дорогой, по которой спешил матрос в белой фланельке – спешил на побывку домой.
Игорь Петрович в своей обычной стеганой безрукавке, понаблюдал за его работой с восхищением:
– Ты, Антон, отменно пишешь небо, землю… С закрытыми, можно сказать, глазами… – Но и заронил в душе сомнение, высказав замечание: – Да желательно – побольше раскрыть характер идущего матроса, а здесь его фигурка слишком малозаметна, мелка. Что, коллеги, скажете?
– Сомнение есть, – сказал Иливицкий. – Комиссия может придраться: дескать, жанр не раскрыт…
– Могу и убрать его с холста – оставить один пейзаж…
– Нет! Может быть, показать героя в общении с домашними – это лучше прозвучит?..
Подошедший к картине Алексей лишь поцокал выразительно языком, ничего не сказал.
Антону все уже было знакомо, или как-то, похоже…
Вспомнился ему живописный экзамен в Московском «Училище памяти 1905 года», куда он, восемнадцатилетний, поступал. То, как впущенные в класс ребята, похватав с толкотней мольберты, враз полуокружили составленный в углу натюрморт с зеленоватым кувшином, книгой в карминовом переплете и апельсином на фоне дымчатой ткани; то, как они, похаживая среди леса мольбертов с холстами, шныряли жадно глазами по холстам соседей; и то, что неподдельно дивились тому, с какой помпой здоровый парень в фартуке, что оказался в центре класса, мастихином нашлепывал краску за краской, ровно штукатурку, на более форматный холст, поставленный им на мольберт почему-то вширь. Антону место досталось там, где досталось, – позади всех ребят, ближе к двери, и он, не подверженный общему психозу (ему так казалось) и не приемливавший этот пастозный стиль живописательства – малоуправляемый, без теплых подмалевок и создания пространственных ощущений, сначала чуть пролессировал предметы, намеченные им ультрамарином на холстинке. Розоватый отсвет переулочный полнил (сквозь окно) помещение и смягчал натюрмортные вещи, и Антон вел такой же красочный колорит под звуки слабого уличного трамвайного перезвона. Он корпусно положил мазок зеленого кобальта на плоскость холстинки – и все-то изображение кувшина заиграло настоящим образом! Оно заоформилось! Это его радовало. Пусть и свысока, скептически глянул на его раскраску этот залихватский парень. И пусть нелюбезно ответил ему седовласый куратор на вопрос, точно ли имеет училище общежитие (Антону приходилось ночевать на вокзале Рижском):
– Общежитие – не мой вопрос. А вот у тебя, милейший, что-то не того…
Как длился второй экзаменационный день, в аудиторию вошел энергичный мужчина, прямо с ходу обратился к близ стоявшему Антону:
– Фамилия!
Кашин назвался.
– Все хорошо, Кашин! – И мужчина, бегло оглядев ряды мольбертов, вышел.
Был то, Антон пока не знал, Сергей Г., его кумир из нынешних живописцев, опекавший училище. И кстати: Антон получил за свой натюрморт оценку «пять», тогда как заметный парень в фартуке – «три».
Впрочем, Кашин дальше, кроме экзамена по рисунку и композиции, не экзаменовался; он не столько не выдержал вокзальных ночевок, сколько уже выяснилось то обстоятельство, что здесь аж третьекурсники иногородние маются еще с жильем – не обеспечены общежитием. Что же рисковать – надеяться лишь на «авось»?..
Сейчас же хватило веских замечаний Игоря Петровича и собственных сомнений – Кашин посчистил мастихином пока еще не затвердевшую краску с холста; он решил изменить сюжет в своей картине: замыслил дать крупным планом фигуру матроса-отпускника среди родных, в домашней обстановке. Однако новой перекомпоновкой был недоволен сильней прежнего: фигура героя получалась какой-то скованной, неяркой.
VII
Да за ужином будто нарочно подсыпал ему соль на рану Алексей – сказал самодовольно-нравоучительно:
– Разве мы по-настоящему пишем-мажем? Все в картине должно играть – звенеть, как струна настроенная. Тотчас вызывать восторг. А подчистка, подмалевка, уверяю я, не спасает от туфты. Этим не исправишь ничегошеньки!..
Может, справедливо, но слова его так задели, возмутили.
Старов, ясно, безмерно заносился, выставляя на люди свое ремесло, как явно заведомую исключительность, достигнутую им заслуженно; поэтому он и влюбчив был, несдержан, а ходил, ступая мощно, широко, – бравировал собой везде, где только можно. Словом, пижонил открыто, не смущаясь. В него «втюрилась», он признавал, жена одного хилого сверхсрочника; раз она на виду всех матросов, шагавших колонной по городу, подскочила к Алексею и в открытую, без утайки, поцеловала его. И муж ее потом выпытывал у всех сослуживцев, в том числе и у Антона, действительно ли она погуливает со Старовым. Антон этого не видел. Да и не мог, не желал участвовать в подобных деликатных выяснениях.
– Слушай, дока, – осадил он Алексея за столом, – ты, возможно, стоящий, очень стоящий художник, без изъянов; но не держи хотя бы своих товарищей за дураков, ничего не знающих, не умеющих и не видящих. Умерь свой горячий пыл, помолчи, поскромничай хоть немножко…
Алексей попытался что-то ответить, только у него от волнения дрожала рука, державшая вилку, и лязгали челюсти – до того он психанул.
В душе Антону стало еще неприятней: он ни с того ни с сего, выходит, учинил словесную расправу; ему было жаль Алексея, не ожидавшего этого, а больше всего – еще противней за себя из-за того, что он отчитал его, хотя, может быть, и по делу. Как то знать…
Ведь люди, если вникнуть, извечно по-людски сумасшествуют, безумствуют.
И опасно, к несчастью, демонизировать свой род искусства: неуравновешенным легко впасть в помешательство. Антон знавал одного юношу-погодка, Родиона, нацеленно писавшего тоже этюды и по-ученически приходившего с ними к Пчелкину; однажды, когда он бродил с этюдником, его даже арестовали военные вблизи воинской части, как опасного лазутчика, и двое суток продержали, пока выясняли, кто он, в своей кутузке. Бывало такое – не редкость. Но как-то заявился он, взъерошенный, к Павлу Васильевичу с ужасными рисунками каких-то монстров и с горячностью стал допытываться у него: возможно ли написать такую картину, что, глядя на нее, человек и может засмеяться или заплакать, иль вовсе умереть? Почти следом за ним пришла и его старшая сестра. Успела она прошептать Павлу Васильевичу, что Родион всю ночь под подушкой топор держал… И она увела его домой. С тех пор он не появлялся. Павел Васильевич винил себя в том, что так откровенничал в разговорах об искусстве с ним: это и могло дурно повлиять на него. И теперь сообщил в письме Антону следующее:
«…29 апреля пришли ко мне с просьбой написать на венок ленту: «Дорогому Родиону, сыну и брату, от родных». Оказывается, Калачев был все это время дома и 27 апреля умер. А мы его адреса и не знали… Хотел я сходить на похороны, на кладбище, да что-то запутался в делах, потом сам загрустил и устроил ему тризну: выпил крепко. Бесконечно жаль его».
И далее он писал:
«Первая любовь – что может быть красивее? Но как это ложно по чувствам? Ложно ли? Да, пожалуй, и нет! Божьи дни не ложны, но жизнь, быт отрезвляют быстро – оставайся «пьяным». Береги главное – чувство любви к человеку, к природе».
Впрочем, у Антона в эти дни испортились отношения и с Оленькой: в их переписке начались выяснения, поредели их встречи.
Неужели он действительно, задавал себе Кашин вопрос, пошел дорогой не означенной, без вешек? Отчего же сильней всего его мучило осознание какой-то постоянной большой вины в чем-то ответственном и перед кем-то беззащитным? Он-то вроде бы сделал все, что мог. В исключительной, непредвиденной ситуации. И вроде бы правильно с моральной точки зрения. И будто бы кто-то другой, почти известный Кашину, уже чувствовал когда-то это самое по более важной причине, не один он, Антон, – чувство ему так подсказывало, он знал, видел, понимал то, если покопаться в памяти…
Опустились позднь и темь. Перед глазами – на той стороне свинцового канала – глухим и высоким забором тянулось вдоль старое красное здание Новой Голландии с беструбной крышей; во всю его высоту – тусклые запыленные стрельчатые проемы – окна. Надоедливо-однообразно качались там топольки.
И вдруг перед глазами – почти наваждение какое-то.
Неуспокоенный Антон, раздумавшись, сидел один на бровке заросшего поля в предсумеречно-размытом пространстве – ни кола, ни двора, ни позади, ни впереди; вокруг растеньица были смутно обозначены, в коричнево-землистой гамме, как глубокой осенью. И всю привычную картину, даже и себя, сидящего в раздумье, он видел разом еще как бы и со спины. Странным, слегка узнаваемым и как бы ожидаемым моментом было то, что это зыбко рисовалось ему в пределах знакомой ему (до боли) родины детства: вот край взборожденной полянки с горушками, в сотне-другой шагов от места с отцовской, он помнил, избой, уничтоженной оголтело налетевшим с Запада стальным вороньем; место ее былого присутствия предполагалось где-то за спиной, он это точно чувствовал, но не волен был повернуться и посмотреть – незачем, потому как он, все зная, что нужно, углубленно вглядывался лишь в одном – восточном направлении (не именно теперь), несмотря на опустившуюся на все смурность и могущую быть безрассветность. И было у него какое-то чувство вины перед матерью: он не мог повернуться, не мог еще разобраться с истинным положением вещей. Оно оказалось намного серьезней на самом деле. Ответственней.
И вот сбоку к нему подошла простая знакомая с виду женщина в обычной ватной куртке-фуфайке. Он не посмотрел на нее. Та показалась ему неродной тетей Полей, с которой он дружил когда-то. Она коснулась рукой плеча его, ласково проговорила:
– Не тужи, сынок, а служи всем. Своим предназначением.
– А зачем, скажи, пожалуйста? – непроизвольно вырвалось у него.
– Спасение – в наших способностях. И – в твоих.
– Ну, откуда ты знаешь, что способен я и на что? – с досадой противился он, будучи в скверном настроении.
– Я-то знаю это хорошо, сынок, ты не волнуйся… – загадочно произнесла гостья небывалая, добрая. – Ум ни дать никому, ни взять ни у кого.
– Да кто же ты такая, что так говоришь?
– Уж такая я – твоя … – и совсем-совсем истаял ее голос в воздухе. И сама она как испарилась. Остался он, Антон, один. Помнил он: где-то тут, должно, могла быть и мать его; но ему теперь – при тяжести раздумья – не было и дела никакого до нее. Он, пень, не повернулся даже! Это он помнил отчетливо.
VIII
Когда старший лейтенант Поповкин, вновь назначенный батальонный помполит, узнал, что троица его кадровых матросов вольготничала, занимаясь без его ведома в Базовом клубе чем-то своим и свободно – напоказ всем – фланировала через пропускной пункт, приходя обедать, со словами, бросаемым дежурным: «Тэжэ» (т.е. «те же»), это его взбесило. Да и разве могло понравиться такое, если руки сами собой сжимаются в кулаки и хочется немедля навести неукоснительный порядок. Казарменный. Что и быть должно.