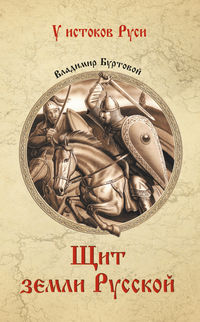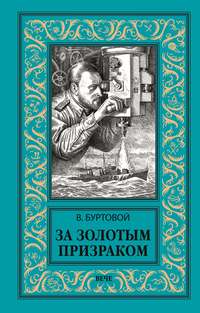Полная версия
Демидовский бунт
«Три змея лютых ползают округ государева дворца. – Никита Никитович выдохнул с присвистом, рука со скомканным челобитием потянулась к груди – ныло сердце. – И кто-то ведь надоумил вора Алфимова сунуться в двор светлейшего князя, к генерал-прокурору… Моими серебряными рублями доносчики дорогу себе мостят по столице, дорываясь к государыне! А здесь злохитростный воевода им во всем потворствует!»
Едва с лютой злобой помянул Федора Шагарова, как за окном мелькнула его неказистая коляска с кучером в армяке на козлах, а спустя малое время услужливый Пафнутьев распахнул перед Шагаровым дверь и, пятясь с поклонами, проводил к просторному столу на хитро точенных круглых ножках.
«Экий жук-плаунец! – с неприязнью покосился Демидов на вертлявого, низкого ростом и с круглым брюшком воеводу. – Вона как кошачьими-то глазами меня сквозь пробуравливает! Мнит себя всесильным и куш изрядный урвать норовит по моим тяжким обстоятельствам. Не в ту ендову руку запихиваешь, мздолюбивый воевода. Не обломать бы пальцев ненароком!»
Воевода, не оглядываясь, ловко скакнул в кресло, подставленное проворным канцеляристом, легким взмахом руки скинул со стола не замеченные вовремя Пафнутьевым хлебные крошки, заговорил первым, напустив обиду на лицо, румяное да щекастое, украшенное закрученными в полукольца широкими усами:
– Кхе, кхе, почтенный Никита Никитович, вот зрю вас во здравии с великой радостью для сердца моего. Прознал от служилых людишек моих, что возвратились вы в свое ромодановское имение. Ан на лихую беду там весьма неспокойно, ох как неспокойно! Но рад, так рад лицезреть вас. И о многотрудной дороге позвольте справиться…
Демидов фыркнул, небрежно отвесил нижнюю губу. Резко сказал:
– Не за медовыми речами приехал я сюда, воевода, и не дорожные заботы гнетут меня, а твое мешкание в деле усмирения мужицкого бунта!
– Вот-вот, почтенный Никита Никитович, опять вы с укорами… То в Сенат на меня пишете жалобы, то в очи обиду бросаете. Видит бог, я радею о вашем деле, аки о своем кровном.
– Так отчего же команду добрую не шлешь супротив государевых ослушников? – Лицо Демидова налилось кровью, глаза полезли из глубоких орбит. Еще миг, казалось, и он запустит в воеводу костылем.
Шагаров егознул в просторном кресле, постучал пальцами о столешницу, любуясь розовыми, аккуратно подстриженными ногтями. Дорогих перстней, как у Демидова, он себе еще не нажил на воеводстве.
– Так ведь, почтенный Никита Никитович, мужики не супротив матушки-государыни взбунтовались, а супротив вас. О том и в челобитных своих пишут, – и шустрыми глазами стрельнул в смятую челобитную, которую Демидов так и не решил выпустить из пальцев.
– Ты кому служишь, воевода? – Демидов не сдержал-таки гнева, закричал, силясь поднять немощное тело и грозно топнуть ногой. – От кого жалованное довольствие получаешь? От матушки-государыни или от воров мятежных берешь подношения моими целковыми?
– Обижаете, весьма обижаете такими непотребными наветами, почтенный Никита Никитович! – вспыхнул Федор Шагаров и выпятил нижнюю челюсть, давая знать Демидову, что крика его он не страшится. – Не восприемлю на свой счет ваши эти оскорбительные слова! А команду не шлю, потому как нет указа Правительствующего сената слать.
– Потакаешь бунтовщикам! – Демидов остановить себя на полуслове уже не мог. – Калужские купчишки охамели вовсе, беспрепятственно с твоей стороны везут печеный хлеб и кормят мужицкое воинство, а взамен опять же мои серебряные рубли, с заводов побранные, себе в мошну кладут! Порядок ли это, когда воровские шайки по городу, словно в темном лесу, безбоязненно шастают, грозят арестантов из-под караула добыть? И добудут, коль воевода и дальше дремать будет преспокойно в своем доме. Мужицких атаманов с разговорами до себя допускаешь, а надобно хватать и пытать нещадно!
– Ромодановцы давненько, став под вашу руку, Христа ради просят под калужскими окнами, – съязвил не без удовольствия для себя воевода. И подумал, поджав губы: «Не много чести высказываешь потомственному дворянину ты, сын вчерашнего тульского кузнеца. Ишь как боярится, на злате-серебре сидя! Воеводу „тыкаешь“, словно дворового холопа. Запахло смаленым волком – прискакал, паралитик, и дороги дальней устрашился. Вопиешь: спасай пожитки мои, воевода! А того в ум не возьмешь, скряга никчемная, что и у воеводы немалый расход в доме».
Выпад воеводы огорошил Демидова, он завозился в кресле, забуравил выпуклыми черными глазами:
– У меня дом горит, а ты, воевода, руки растопыренные у того огня греешь! Да о трех ли ты головах, Федор? Нынче же отпишу в Сенат о твоих смутных речах про мятеж и твое нежелание усмирять бунт, отчего огонь и так уже по окрестным волостям перекинулся. Антип, волоки из коляски мою гербовую бумагу и перья. Пущай знает матушка-государыня, каков у нее здесь «недреманный» страж порядка сидит!
Воевода понял, что изрядно переборщил в споре со всесильным Демидовым, мягко и уступчиво – дескать, оба мы знаем предостаточно друг про друга – улыбнулся незваному гостю:
– Обещаю, почтенный Никита Никитович, и часу не мешкая, повелю полковнику Олицу выступить с Рижским драгунским полком, едва лишь указ от Сената будет, чтобы усмирить своевольное мужичье изрядной воинской командой. Что толку браниться нам, коль забота у нас с вами одна.
Ласковый голос воеводы, неторопливые жесты его холеных рук подействовали на Демидова успокаивающе. «И то верно, чего зазря пыль поднимать, себе же очеса можно лишний раз припорошить так-то. Должно, проведал про мои дела здешние изрядно, щекастый паук, потому и дразнить его нет резона». Для видимости, что гнев его не так отходчив, проворчал под нос:
– Кульер с указом уже в дороге, воевода. О том осведомился я через верных людей в Сенате, – и попросил воеводу: – Прикажи притолкать взашей из арестантской избы того челобитчика-вора Алфимова. Сам хочу спросить о пакостных его сотоварищах, кои и по сей день все еще бродят в столице. Узнать бы имена да розыск достойный над ними учинить.
Шагаров махнул рукой Пафнутьеву – приведи, дескать, того челобитчика, пусть хозяин поспрошает своего холопа.
* * *Редкий день не приносил в Ромоданово из Калуги каких-либо неприятных сведений. Неугомонный Иван Чуприн поутру переправлялся с партиями вооруженных мужиков в город, доискивался встречи с воеводой Федором Шагаровым, задаривал вельможу демидовскими целковыми в надежде узнать, нет ли от матушки-государыни именного указа быть им вольными от заводчика.
Воевода, всякий раз распалившись до пунцовости, сотрясая щеками, кричал и стращал «разинское отродие» драгунами, грозил побить мужичье «огненным боем», но, приняв подношение, неспешно утихал, добрел лицом и взглядом, обещал – теперь уже доподлинно в последний раз – не посылать воинскую команду на мятежную волость еще день-два, ожидая милостивого указа от матушки Елизаветы Петровны.
14 мая, возвратясь из Калуги в демидовскую усадьбу, где постоянно пребывали мужицкие атаманы, Чуприн в сердцах швырнул суконную мурмолку в угол, на лавку, выкрашенную в нежно-голубой цвет. Андрей Бурлаков побелел лицом, вскинул перепуганные глаза.
– Ты что это, Иван, так распалился? Худое прознал что?
– Все! Отрыгнул старый коршун жирную подачку, не клюет боле ненасытная, казалось, утроба! О своей голове озаботился.
Кузьма Петров не понял Чуприна.
– Сказывай толком, что стряслось?
– Похватали в Петербурге наших посланцев с челобитной, Семена Алфимова со товарищи. Прознал я нынче – содержатся в Калуге, в провинциальной канцелярии. Bо́т так! Ко дворцу царскому и близко не подпустили! Демидов самолично в Калуге объявился.
Волостной староста сгреб бороду в кулак и в растерянности уставил на вестника глаза – что еще безрадостное скажет? Кузьма Петров молча, насупив брови, прошел через зал, остановился против портрета императрицы – холеное полное лицо обрамлено воздушными кружевами, взгляд ласковый, на подкрашенных губах легкая усмешка. Правая бровь царицы чуть приподнята, словно государыня в удивлении вопрошала подошедшего мужика: «Чего тебе, родимый?»
Кузьма наткнулся на этот взгляд, в смущении одернул протянутую было к портрету руку, чтобы не дать воли подступившему к сердцу гневу. Но от укора не сдержал себя:
– Так-то ты, государыня-матушка, с нашими посланцами обошлась?
– А что воевода сказывал? – Андрей Бурлаков вытер ладонью лысину, распахнул кафтан.
– Не принял нынче нас воевода, – буркнул сквозь зубы Чуприн. Прошел к столу и тяжело сел на скамью, подобрал мурмолку, закомкал ее в руках. – Сыскали мы его в саду, а он со столичным кульером. Висит тот кульер у воеводы на ухе да бумагу в нос тычет. Издали махнул нам рукой воевода – уходите, дескать, от греха.
Василий Горох с немалым усилием разогнул сутулую спину, повернулся лицом к портрету императрицы. Еще недавно пообок с изображением Елизаветы Петровны висел маслом писанный портрет старого Никиты Демидовича, основателя династии заводчиков. Покойный Оборот упрятал портрет в чуланах, с глаз мужицких, остались лишь толстый гвоздь в стене и неприбранная паутина на том месте.
– Стало быть, мужики, худой указ привез тот кульер, – сказал Горох. – Ждите днями воинскую команду. Надобно поторопить Дмитриева с обучением мужиков воинским наукам. Быть скорой драке!
И будто в воду смотрел старый вещун! Поутру следующего дня Ромоданово было поднято ранним набатным звоном. Похватали мужицкие атаманы ружья и вон из демидовской усадьбы. Со всех дворов, вооружась, выбегали на улицу и спешили к церкви ромодановские мужики. Набат подхватили в соседних селах мятежной волости.
Чуприн, сидя верхом на буланом жеребце Оборота, распоряжался, куда какой сотне выступать.
– Дмитриев! – Иван Чуприн отыскал отставного солдата. – Мы к перевозу спустимся, а ты всех прибывающих сватаживай здесь, в имении. Дадим знать – скопом валите на подмогу!
– Слушаюсь, атаман! – Отставной солдат, невольно становясь во фронт, вскинул руку к треуголке. – И за тылом пригляжу – не наскочили бы со спины супостаты непрошеные!
Дозорные на звоннице церкви вовремя приметили движение солдат в городе, и теперь ромодановцы, изготовившись всем воинством, наблюдали, как по противоположному берегу к реке спускались пешие драгунские роты. Чуть ниже переправы в воду вошли конные драгуны и пустились вплавь через Оку.
Чуприна охватил азарт предстоящей драки. Настегивая жеребца, не опасаясь первым получить драгунскую пулю, носился он вдоль берега, выстраивал одних мужиков у переправы, других ниже, против конных, и часть в резерве, в соседнем лесу.
– Не выпускай их из воды! – багровея лицом от натуги, кричал Чуприн. – Кузьма, веди выровские сотни супротив конных! Бейте рогатинами в конские морды! Да первыми огненного боя не учинять! – предупреждал Чуприн. Знал, что против прицельного огня мужикам долго не устоять, повалятся десятками, а прочие дрогнут…
Кузьма Петров от рощицы поспешил загородить конным драгунам ход на берег. Не менее трехсот работных Выровского завода, приминая молодую зелень склона, повалили следом за Кузьмой, вошли по колени в воду и ощетинились длинными рогатинами, копьями, отточенными до синевы косами, зловещий блеск которых резал глаза подплывающим драгунам.
У переправы Чуприн сам с несколькими сотнями ромодановцев изготовился встретить пеших драгун. Солдаты тесно сгрудились на пароме, с беспокойством поглядывали на вооруженную толпу мужиков у берега: этих-то одним залпом не уполовинить даже, а на взгорке близ церкви еще тьма-тьмущая собирается. А вон, за дальней околицей, по открытому месту от села Игумнова бегут еще не малой толпой… И калужский берег густо усыпан народом: горожане прознали о выходе солдат и теперь напряженно ждали, чем кончится бой. В этом молчаливом ожидании чувствовалась скрытая до поры до времени ненависть против солдат, которых послали усмирять взбунтовавшихся работных, – дикий нрав Никиты Демидова в Калуге был всем ведом.
– Назад! Плывите назад, солдаты! – Чуприн встал у туго натянутого каната и, сложив ладони у рта, кричал в сторону парома. Его зычный голос далеко разносился над взволнованной рекой. – Не вводите в грех! Не понуждайте учинить над вами смертный бой!
Паром неуклюже полз по реке к ромодановскому берегу. Солдаты глухо перешептывались – ступить на твердую землю и встать во фронт им не дадут, примут на рогатины, косами взрежут пропотевшие мундиры…
– Топор сюда! – Чуприн вдруг резко повернулся к стоящим за спиной мужикам. – Топор живо мне!
Капитон тут же выдернул из-за опояски тяжелый топор.
– Руби канат! Пусть их несет к чертовой бабушке!
До берега было уже несколько саженей, когда эхо удара топором гулко отдалось от крутого берега. Еще удар, и несколько уцелевших прядей пеньки с треском лопнули; натянутый канат, словно кнут пастуха по росной траве, звонко хлестнул по воде, и паром медленно пошел вниз по течению, к великой радости драгун унося их от неминуемой кровопролитной драки с мужиками.
А возле ромодановского берега драгуны уже сошлись с работными. Понукаемые всадниками, мокрые и оттого блестяще-глянцевые кони лезли на скользкий подъем. Прибрежная полоса воды окрасилась желтой глиной и кровью: рогатины, пики и косы безжалостно кололи и резали кожу, вскрывали вены, рвали горло. Смертельно раненные кони вставали на дыбы, сбрасывали мокрых всадников, подковами молотили воздух и воду перед собой.
Драгуны садились в мокрые седла и пытались прорубить себе дорогу через густой заслон мужицкого рукопашного оружия. Однако палаш не топор, да и рогатины не беззащитная лоза. Бьются вымокшие, перемазанные глиной драгуны во взбаламученной реке, а на берег хода им нет.
Брошенный кем-то обломок кирпича сбил кивер с головы драгунского капитана. Вокруг офицера злые, обреченно-невменяемые лица подчиненных. И он понял: не останови он их теперь же, перед явно бессмысленной гибелью, и чей-нибудь палаш в такой кутерьме снесет и его голову.
– Проклятье! – кричит капитан. – Поворачивай назад! Поворачива-ай!
Под градом камней, провожаемые угрозами и обидным свистом, полторы сотни всадников развернулись и поплыли через Оку на калужский берег, где на мели сидел паром и солдаты, по пояс в воде, покидали бесполезное судно.
Кузьма Петров, мокрый и заляпанный желтой жижей, прокричал сыну Егору:
– Лихо нахлестали по мордам супостатам! Впредь на рожон не сунутся! И еще зададим перцу – самому черту тошно станет!
Ромодановцы вылезли на берег из воды, наскоро отжимали порты и подолы длинных рубах. На яркой зелени уложили пораненных и искалеченных копытами товарищей. Три сгорбленных деда, прикрывая битые места толченым кровавником, спешно делали им повязки.
Чуприн оставил в рощице близ перевоза полусотню работных с Кузьмой Петровым – дежурили здесь атаманы поочередно – и отошел с прочими атаманами в Ромоданово отдохнуть и отобедать.
– Ну, братцы-мужики, дело заваривается густое, не шуточное, – посетовал Андрей Бурлаков, едва выборные собрались в светлом зале демидовской усадьбы. – Стряпуха Пелагея, тяжело постукивая сапогами-обносками, засуетилась накрывать на стол. – Воевода и полковник Олиц сие мордобитие без последствий не оставят.
Михайла Рыбка, обжигаясь горячими щами, покосился на Бурлакова: что-то не видно было волостного старосты во время драки у перевоза, атаман из Бурлакова никудышный вышел – ни рыба ни мясо, но смолчал. Не время между собой свару разводить.
– Некоторое время придется скопом стоять в Ромоданове, бережения ради, – принял решение Чуприн и вдруг добавил: – Нашел я несколько сотоварищей в Калуге. Обещали постоянный присмотр за солдатами держать. Еще сказывали, что есть немалое число из горожан, готовых нам посодействовать и к нашему стану прибиться.
Василий Горох отодвинул пустую миску на край стола, одобрил:
– Друзьям всегда рады, – и тяжело поднялся навстречу вошедшему в зал попу. – Пришел, отец Семен? Проходи на мое место к окну. Порешили мы, святой отец, еще раз через воеводу подать челобитие матушке-государыне… Не крови и смерти ищем, но слезно просим вызволения из-под демидовского ярма несносного.
– Ведаю о том, дети мои, – пробасил отец Семен, перекрестился на иконы, отбил поклон портрету императрицы и прошел к столу.
Василий Горох следил за рукой отца Семена, и когда тот останавливался, вновь начинал перечислять мужицкие невзгоды. Нетерпеливый Чуприн то и дело вскакивал со скамьи, подбегал к столу и тыкал пальцем в край бумаги.
– Напиши непременно, отец Семен, что ея императорскому величию мы не противники, но за Демидовым не хотим быть. Мы смерть себе от него видим и в руки к нему вновь не пойдем!
– Это уж так, – бросил Василий Горох и поскреб жесткий кадык сквозь седую бороду. – Пропиши, святой отец, что оный же немилосердный мучитель Демидов малое какое в деле неисправление превращает в пытку, бьет кнутом и по тем ранам солит солью, како татарин некрещеный над православными измывается!
– А как про Федора и демидовскую потайную пытошную не прописать? – вскинулся Михайла Рыбка и тяжело, всем телом, повернулся к портрету императрицы. – Пусть знает наша заступница, что оный Демидов дозволяет своим катам жечь людей каленым железом. – Темные глаза Михайлы налились кровью, по скулам заходили тугие желваки. – Пиши, святой отец, что Демидов без всякого указу сажает невинных между домниц, в сделанную там темницу, которая выкопана в земле, выкладена камнем и бревнами. А еще налагает Демидов на руки, на ноги и шею боле восьми пудов цепь и так в той преисподней морит безвинно!
– Воистину все это так! – выкрикнул от себя Чуприн. – По взятии мною Выровского завода из той темницы шестерых работных едва ли не при смерти к солнцу достали.
Выборные, а вслед за ними и поп Семен, троекратно перекрестились. Через открытое окно зала с противоположного конца села донеслись возбужденные неясные голоса многочисленной массы людей.
– Что за содом и гоморра? – насторожился Чуприн и повернулся лицом к окну.
– Поглядеть надо – не солдаты ли ворвались с тыла! – вскочил с лавки Андрей Бурлаков.
– Заставы упредили бы. – Василий Горох сгреб со стола треух и тяжело поднялся: при его хвори и немалых уже летах такое беспокойное житье не в сладость.
Чуприн прихватил ружье и следом за Кузьмой Петровым выбежал на улицу.
В село, в окружении ромодановских ребятишек, вваливалась густая толпа вооруженных работных. Впереди распоясанный, в новых, грязью забрызганных козьих сапогах, вышагивал мужицкий атаман Гурий Чубук. И кафтан на нем явно с чужого плеча, узковат.
Чубук отбил поклон выборным, гордо произнес:
– Вот, атаманы-мужики, наказ ваш я исполнил! Последний здешний Демидова завод, Брынский, остановлен! Возьмите и нас в свое воинство!
Встречать вновь прибывших высыпало все Ромоданово. Ребятишки повисли на руках родителей, вернувшихся с дальнего завода.
Василий Горох, превозмогая боль в пояснице, всенародно отбил земной поклон работным.
– К часу трудному подоспели вы, братья. Нынче уже пробовали воевода и полковник Олиц нашу силу и крепость нашего духа. И надо теперь ждать нам со дня на день крепкого боя. Вон там наш недруг силы копит! – И Горох стволом ружья указал за Оку, где над Калугой мирно стлался густой звон: там звонили к вечерне.
* * *Однако в Калуге, похоже было, и не думали повторять попытки усмирить мятежную волость воинской командой. Через три дня на восстановленной переправе появился канцелярист Пафнутьев. Приблизившись к берегу, он нацепил на нос стекла, важно выпятил грудь и, не сходя с парома, зачитал подступившим ромодановским выборным указ Сената о выдаче зачинщиков и о беспрекословном повиновении Никите Демидову и его наследникам.
– А куда подевал нашу челобитную, которую два дня назад мы вручили тебе? – спросил Василий Горох. Пафнутьев ответил, что с воеводским курьером она отправлена в Петербург Сенату.
– Нам тобою читаное не указ, – отрезал Василий Горох. – В том Сенате сидят такие же лихоимцы и притеснители, как наш Никита Демидов, как хозяин соседних мануфактур Афанасий Гончаров, у которого тако ж взбунтовались приписные работные и оказали неповиновение. Ведомо миру издревле, что ворон ворону глаза не выклюет… Езжай, писчая душа, от греха подальше! Скажи воеводе – ждем именного, матушки-государыни собственной руки указа, а не сенатского! На том и стоять будем до скончания живота!
Ночь на 24 мая. Над беспокойно засыпающим селом зажглись яркие улыбчивые звезды. Полная луна, словно раздобревшая молодка, кокетливо выглядывала из-за редких облаков на темную землю, на мужицкие дозоры вокруг Ромоданова, высвечивая им в помощь сумрачные овраги и лесные чащобы.
В окно осторожно постучали. Лукерья испуганно вскрикнула, рукой приостановила жужжащую прялку. Капитон отставил в сторону недоплетенный лапоть – горит на внуке обувка, словно не по земле, а по пожарищу тот бегает, смахнул с колен светло-коричневую чешую лыка.
– Кого это бог послал так поздно? – Капитон покосился на Анисью. Сноха в углу под лампадой молча вышивала новую рубаху Илейке. Подумал: «Может, Акулинушку где отыскали? Сколь дней минуло, как Ока вскрылась, а покойница все не предана земле…»
Вышел, настороженно открыл дверь и охнул сдавленно. Чего угодно ждал, только не этого! В дверном проеме, освещенная со спины желтым размытым светом, выросла зловещая фигура в солдатском кафтане, в широкой треуголке и при палаше. Капитон отшатнулся, лихорадочно вспоминая, где же в сенцах приткнул днем впопыхах топор?
– Не опасайся меня, добрый человек, – тихо проговорил солдат. – С миром пришел я… один.
Капитон с трудом совладел с собой, нерешительно пригласил нежданного гостя в избу.
– Того мне никак делать не можно, – вполголоса ответил солдат. – В великой тайне добирался я сюда от лагеря в село… На берегу меня добрый калужанин в лодке дожидается. Пошли кого ни то позвать ваших атаманов. Важную для них весть имею.
Капитон приоткрыл дверь из сенцев в горницу, позвал негромко:
– Илья, выдь на порог.
Послышалось шлепанье босых ног о пол – внук спрыгнул с полатей. И вот он рядом. Увидел солдата, застыл на месте.
– Иди сюда, не страшись. – Капитон притянул внука за плечо. – Беги в усадьбу, покличь выборных. Скажи тихо, что вестник с того берега дожидается.
Внук мигом исчез за темным плетнем.
Капитон и солдат присели на завалинке под окном, молча поглядывали друг на друга. Напротив них в темном огороде обшарпанное пугало, будто пьяный мужик у трактира, нелепо размахивало рукавами – от реки тянул порывистый свежий ветер. В соседнем подворье с риги за зиму Кузьма Петров снял всю солому, и теперь остов крыши напоминал скелет дохлой лошади: толстый позвоночник и белые, обветренные, дождями вымытые ребра-стропила.
Тяжелые шаги послышались издали. Капитон вышел встретить у калитки.
– Где вестник? – спросил Иван Чуприн, заметно запыхавшись от быстрой ходьбы через все село.
– Во дворе, проходите, атаманы.
Солдат вышел под лунный свет из-за темного угла, приветствовал атаманов снятием треуголки и глубоким поклоном. Ему ответили тем же, расселись опять в тени дома.
– Говори, брат, с чем пришел? – начал первым Иван Чуприн и доверительно положил руку на локоть драгуна.
– Получен указ Сената в Военную коллегию о высылке воинской команды супротив вас, – заговорил драгун, сильно окая. – При том указе есть особливая инструкция штаб-офицеру: поначалу увещевать мужиков, а выйдут на бой, так попервой для острастки стрельнуть пыжами. А буде и после этого не разбегутся, то б стрелять боевыми зарядами. Вот таковы новости, братья, – закончил драгун и посмотрел на атаманов – испугались или нет?
– Когда выступит та команда? – уточнил чуть дрогнувшим голосом Василий Горох.
– Вахмистр вечером сказывал, что встанем под утро, без барабанного боя. Куда помаршируем, о том и ему неведомо пока.
– Не прибыло ли в Калугу еще воинских сил? – поинтересовался Чуприн.
– Покамест только наш Рижский полк. – Драгун хлопнул ладонями по коленям, норовя встать: ему надо спешно возвращаться в лагерь, не хватился бы вахмистр, тогда засекут до смерти.
Василий Горох тяжело выдохнул.
– Вот какова нам, мужики, милость от Сената… Не дошло до уха матушки-государыни наше слезное прошение, сенатские лиходеи попридержали от нее в тайне. Стало быть, шум крепкого боя непременно дойдет!
– У нас останешься? – с некоторой долей надежды спросил Иван Чуприн. – Оставайся, брат. Нам ты будешь очень полезен.
– Присяга на мне, – отказался драгун и, как бы извиняясь, добавил: – Крест святой целовал, как же порушу присягу?
– Вольному воля, брат. За весть от всего мира земной поклон тебе. Даст бог, уцелеешь от мужицкой рогатины. Вперед других не суйся в драке, – посоветовал Чуприн. Драгун ответил с горькой усмешкой, развел руками:
– И тут я не волен – в солдатском строю за мной место накрепко помечено, потому как каждый из нас подобен бревнышку в частоколе – подогнаны друг к другу и по толщине, и по росту…