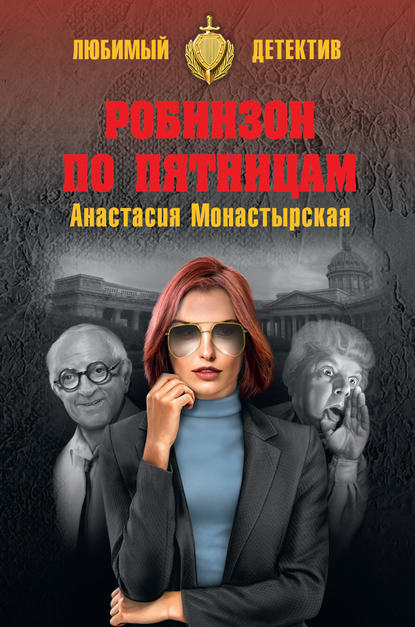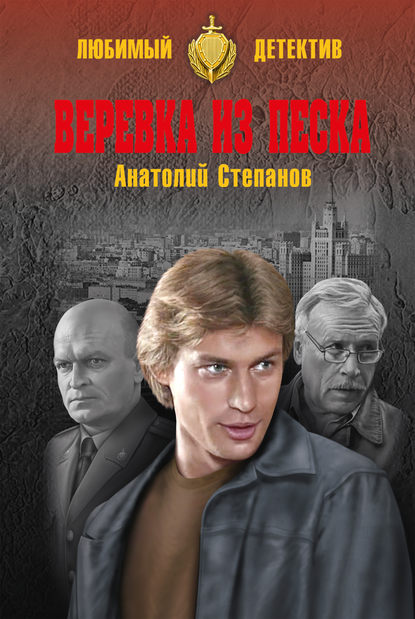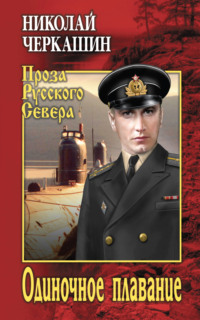Полная версия
Дверь в стене тоннеля
– Подвези, если резины не жалко.
– Резины не жалко. Бензин дорогой. Куда тебя, гражданин начальничек?
– В Богородское… – Еремеев назвал Татьянин адрес.
– Пора бы с двух колес на четыре становиться, – покосился Цикля на сверкающие спицы.
– Дорогой мой, – усмехнулся Еремеев, – человечество еще не изобрело ничего более толкового и полезного, чем велосипед.
– Ну-ну… Ну а как оно «ничего»?
– Вчера уволился. Сегодня свободен как танк.
– Может, к нам подашься, гражданин начальничек? У нас контора хорошая – банк охраняем. И зарплатой не обижают.
– Не пойду.
– Что так?
– Слава тебе, Господи, настрелялся досыта.
– Ну, вам из погреба виднее… Просю! Как заказывали – Игральная, десять! Если передумаете, звоните.
Цикля сунул роскошную – черное с золотом – визитную карточку: «Начальник службы безопасности коммерческого банка “Модус”». Еремеев только головой покрутил: пустили козла в огород…
Татьяны дома не оказалось. Гименей не любит экспромтов. «Значит – судьба», – подумал Еремеев и отправился домой, дождавшись дребезжащего трамвая.
Глава четвертая. Снявши голову, по волосам не плачут
Он никогда бы не подумал, что роковые дни могут начинаться так тускло и буднично, без грозных предвестий и знамений.
Утром встал с привычным нытьем в желудке – язва. Сделал зарядку по упрощенной схеме, сварил овсянку себе и Дельфу – из одной кастрюли, выгулял пса, собрал в рюкзак велодетали и двинулся в метро.
На Ярославском вокзале он втиснулся в последний вагон александровской электрички и простоял в тамбуре, прокуренном, как старая пепельница, почти до самого Хотьково. В эти первомайские дни стояла летняя сушь и лютый зной нещадно донимал пассажиров.
Выйдя из поезда, он с облегчением окунулся в прохладу весеннего елового леса и зашагал по прошитой тут и там узловатыми корнями тропе. Навстречу попался сосед, лесник-пенсионер, с позвякивающими в сумках пустыми бутылками – урожай после праздничных массовок на лоне природы. Огорошил с ходу:
– Олег Орестыч, тебе дом спалили! Ночью. Я пожарных вызывал. Приехали, да без воды. Пока в пруду набирали, пока чухались… Ну, кой-чего осталось. Банька осталась, сарай… Так что не обессудь, брат. Такие дела…
Еремеев не поверил ни единому слову, но сердце заныло.
Дом, переживший отца и деда, казался вековечным.
Он прибавил шагу и только теперь почувствовал запах гари, стоявший в лесу. Взбежал на пригорок и глянул в родную сторону. Там, где над зубчаткой еловых макушек всю жизнь вздымалась крутоскатная крыша высокого терема, ничего не было. В привычном месте знакомого с детства ландшафта зияла пустота безмятежного голубого неба.
Наконец он увидел все…
От двухэтажного дома с мансардой и террасой под башенкой остались лишь обугленные стены сруба. Сгорел весь верх, обе террасы – большая под башенкой и малая задняя. Вокруг остова сруба торчали черные мачты обгорелых елей. Весь участок был забросан изломанными, закопченными, истоптанными вещами, которые пожарные успели выбросить из пылающего дома и сами же нещадно затоптали. Мокрые перья из растерзанных подушек облепляли уцелевшие кусты жасмина и сирени, ствол бабушкиной любимицы-рябины и дуба, посаженного дедом в честь рождения сына-первенца.
Казалось, в дом попала бомба, разметавшая все, что в нем было. Еремеев много раз видел такие же жестоко разметанные человеческие гнездовья и в Кабуле, и в Герате, и в Кандагаре. Но то были чужие дома…
Сруб ставили летом семнадцатого года, когда дед в чине поручика пришел с фронта без кисти левой руки. Поднимали дом вместе с братьями на не бог весть какие мещанские капиталы. Ставили его не как дачу, а именно как дом для оседлой жизни большого семейства. Так и встал он на радонежской земле, отмоленной Сергием, этот рубленый особняк с тремя фронтонами на север, восток и запад – Троица! – с башней-террасой, верандой, глубоким подвалом, высоким чердаком и множеством всяких чуланов, кладовок, антресолей и даже потайной комнаткой, куда складывали при отъездах самые ценные вещи.
С некоторых пор Еремеев понял, что этот дом и есть его родовое гнездо. И чтобы ощутить это ныне вымершее чувство, ему понадобились три года морей, три года Афгана и полжизни беспрерывных служебных кочевий.
– Горело-то, горело-то как! – горестно восхищалась соседка-лесничиха. – Огненным столбом все стояло. Аж облака коптились… Под утро и занялось. Слышу сквозь сон, вроде как пальба какая. Tax! Tax! Tax!.. Ну, думаю, опять ивантеевские шалят, с нашими разборка. А то – шифер лопался, ну, прямо как из ружей палили…
Он брел по пепелищу, выискивая уцелевшие вещи.
Черный телевизор, в оплывах потекшей пластмассы, смотрел на него черным оком закопченного кинескопа. Это был взгляд сгоревшего Дома. Последние годы Еремеев почитал его за живое существо и даже беседовал с ним вслух под настроение, как разговаривал он и с Дельфом. «Можно жить без жены, – говаривал он друзьям, – но без собаки дом не полон».
Дом… Он, даже мертвый, ловил его взгляд то пустой глазницей выбитой рамы, то черным растресканным зеркалом, прикипевшим к простенку.
Подкова в синеватой окалине висела над провалом входа, не уберегла от беды.
Спекшееся нутро отцовского патефона, оплывшие, как на полотнах Дали, черные блины граммофонных пластинок. Все эти довоенные танго, фокстроты, чарльстоны сплавились в сплошной черный ком вечной немоты. Ржавая от огня рама сгоревшего велосипеда-долгожителя. С девятого класса и по сю пору гонял он на неизменном «Урале». Сгорели стойкие пластилиновые солдатики в коробке.
Сгорело бабушкино подвенечное платье.
Сгорела отцовская парадная фуражка, которую на похоронах прибивали к крышке гроба.
Сгорел старинный приемник деда – ламповый в тумбообразном деревянном корпусе: хрустнул под ногой динамик, прокричавший в сорок первом про войну.
Он подобрал из дымящихся еще угольев ослепший цейссовский бинокль – дедовский трофей с первой германской.
Долго смотрел на вскипевший термометр.
Лики икон преобразились в черные угольно-растресканные доски.
Сгорели мамины портреты, рисованные ее женихами и тайно хранимые за подложками рам прабабушкиных и прадедушкиных дагерротипов, которые тоже превратились в пепел.
Из-под груды недосгоревших книг он вытащил мокрую флотскую шинель с погонами лейтенантской младости, обгоревшими, словно в корабельном пожаре. Там, в отсеках подводной лодки, его хранили от огня бабушкины молитвы.
Огонь – одна из ипостасей смерти, смерти скорой и всепожирающей.
Сгорело все, сгорело прошлое, сгорела память предков, сгорели вещи, хранившие нежный запах детства и аромат юности, тепло бабушкиных рук и материнской груди…
Сгорели письма и дневники.
Сгорели мамины вышивки болгарским крестом и школьные портфели, курсантские конспекты и семейные фотоальбомы. Сгорела вся та рухлядь и весь тот хлам, который периодически вывозился из московских квартир – на дачу, и дороже которого, когда он исчез, ничего не осталось…
Сквозь шок ужаса к сердцу прокрались первые змейки боли. Олег тихо застонал.
Кто-то обнял его за плечи… Тимофеев.
– Не надо ни к чему привыкать, старик. Даже к собственным ногам, – притопнул он протезом. – Россию потеряли, не то, что дом. Пошли ко мне… Замоем это дело.
Они медленно побрели в город, на Вокзальную, где жил бывший майор.
«Ну и что, – утешал себя Еремеев, – во все смутные времена гулял по Руси красный петух. И в семнадцатом усадьбы горели, и теперь полыхают… Прав майор, сначала Россию потеряли, а потом и дома».
– Ты хоть можешь предположить, кто поджег? – спросил Тимофеев.
– Кандидатов предостаточно. Толку мало.
– Ты же следователь. Сам себе помочь не можешь?
– Не могу.
– Почему?
– Потому что сапожник всегда без сапог. Я не помню, чтобы в моей практике рассматривалось хоть одно дело о поджоге.
– Поджогов, что ль, не было?
– Сколько угодно. Но когда горят частники, как я, государству это по фигу. У нас частная собственность с семнадцатого года не в чести.
– Опять ты свою белогвардейскую волынку завел, – проворчал Тимофеев. – И как тебя, такого антисоветчика, в Афган выпустили?
– Врачи шибко нужны были.
– Это точно, – вздохнул Тимофеев. – А дом мы тебе отстроим. Не грусти. Может, у меня останешься?
– Спасибо. Поеду домой.
Ночью накатила бессильная ярость. Мафия бессмертна. Мафия беспощадна. Мафия многоголова. Но, как и всякая гидра, она уязвима, если бороться с ней ее же подлым оружием…
Сейчас он держит руку на горле одной из ее голов. Какая разница, кто ответит ему за сожженный дом – ивантеевские ребята, которых он сажал пять лет назад за разбой, или та черкизовская проходчица. Всем им одно клеймо – мафия. Мафия взяла, мафия и вернет. Он отстроит дом… Они заплатят сполна.
Он знает, как взять с них «капусту». И он возьмет ее. План родился глухой ночью. И утро, которое всегда мудренее вечера, не смогло поколебать ночных доводов. Утро, извечной трезвости утро, вынесло свой вердикт: план реален. Надо действовать.
Глава пятая. Должностное преступление, или Операция «мусор»
Утро этого решающего дня Еремеев начал с медитации. Он сел поверх одеяла по-татарски и, слегка раскачиваясь, уставился на маячившую в окне серо-голубую башню черкизовской высотки.
«Я сделаю это. Сегодня я сделаю это, – повторял он про себя боевое заклятие. – Я должен это сделать. И сделаю это. Сделаю это, потому что мне очень нужны деньги. Мне нужно много денег, и сегодня я их добуду. Я добуду сегодня много денег. Я начну совершенно новую жизнь. У меня все получится. Я отниму эти деньги у мерзавцев. Они все мне должны. Я верну свои деньги. Я сделаю это. Сделаю!»
Потом отправился в ванную, и ледяной душ закрепил только что принятое решение.
На завтрак выпил чашечку жасминного чая – запах жасмина, как уверяют китайцы, стимулирует работу мозга куда лучше, чем кофе. Еремеев не раз убеждался в этом на собственном опыте. Сегодня, как никогда, нужна была быстрая и четкая реакция.
Выгуляв Дельфа, он направился к дому № 26. Несколько раз обошел его вокруг, изучая подходы к центральному подъезду. Затем поднялся на двадцатый этаж, постоял у двери, за которой жила Табуранская. Засек время и опрометью бросился на лестницу. Он несся вниз, перескакивая сразу через несколько ступенек, делая лихие виражи на лестничных площадках. Где-то между четвертым и третьим этажами от постоянных поворотов у него закружилась голова, но он все же сбежал вниз и посмотрел на часы: стремительный спуск с двадцатого этажа занял семь минут.
Только после всего этого он набрал из будки автомата ее номер.
– Карина Казимировна?
– Да.
– Как вы себя чувствуете?
– Нормально. А это кто?
– Я ваш следователь. Но не тот, который ведет дело о нападении на вас в Шереметьеве. Я следователь ФСК. На вас заведено уголовное дело по факту провоза наркотиков.
– Это полная чушь! Это…
– Не спешите… Все это вы успеете сказать мне в кабинете на допросе. Передо мной на столе лежит ордер на ваш арест. Но дело пока еще на той стадии, когда только от меня зависит, будет оно закрыто или нет. Вы меня понимаете?
– Да.
– Я предлагаю вам деловое соглашение: мне нужны деньги, «капуста» разумеется, «зеленые»… Вы платите, я закрываю дело.
На том конце провода полыхали мучительные сомнения. Даже мембрана стала потрескивать, должно быть, от бури биотоков, разыгравшихся в прелестной головке Табуранской.
– Предупреждаю, – облегчил муки сомнений Еремеев, – наш разговор не фиксируется на пленку. И если бы даже фиксировался, то по нынешним уголовно-процессуальным законам техническая запись его не может фигурировать в качестве обвинительного материала.
Доказательство вот оно, у меня в руках. Черная такая штучка со шнурком. Достаточно будет взять у вас мазок, чтобы идентифицировать микрофлору, оставленную на ее поверхности. Вы понимаете, о чем я говорю?
– Да. Сколько это будет стоить?
– Вот это деловой разговор. Тридцать тысяч.
– У меня нет такой суммы.
– Ваши друзья вам помогут. Ведь фирма не оставит в беде свою верную сотрудницу.
– А где гарантия с вашей стороны?
– Гарантия уже лежит в вашем почтовом ящике. Сходите, посмотрите. Я позвоню через четверть часа.
Он повесил трубку. Ну что же, разговор состоялся. Крючок заброшен. Охота началась. Пока все идет так, как было продумано и придумано. Он выкурил сигарету, хотя уже лет пять как бросил курить, и сменил другой телефон-автомат.
Он посмотрел на часы. Вот сейчас она открывает почтовый ящик, достает паспорт, листает, поднимается на двадцатый этаж… Пора звонить. Она взяла трубку, и голос был чуть запыхавшимся. Должно быть, бежала от лифта. Только вошла.
– Вы достали гарантию?
– Да, спасибо.
– Вот так же вы получите и все остальное. Вам понятно?
– Да. – Она взяла себя в руки, и голос снова стал бесстрастным и жестким. – Я согласна. Где и когда передать вам деньги?
– Чем быстрее, тем лучше. «Метлу» знаешь? – перешел он на ты.
– «Метелицу»? На Новом Арбате?
– Да. Завтра в полдень.
– Как я тебя узнаю?
– Об этом я скажу тебе завтра утром. За час до встречи.
– Договорились.
– Жди звонка.
Именно так он и хотел закончить разговор. Теперь надо было действовать. Сначала он сходил в хозтовары и купил почтовый ящик, потом наклеил на него этикетку «Для заявок в ЖЭК» и повесил его в подъезде Табуранской. В ящик предварительно положил сверточек с главной уликой – черным футлярчиком. Арчу вытряхнул в унитаз и вместо нее насыпал слегка подожженный до арчовой желтизны сахарный песок. Ключик от ящика спрятал в бумажник.
Угрызения совести насчет противозаконности своих действий глушились тремя аргументами: «Мафия сожгла, мафия и построит». «У мафии денег много». «ФСК против мафии – “тюлькин флот” против акул. Ловят мелюзгу, а крупных хищников не трогают, или боятся, или не хотят, или не умеют».
Утром бриться не стал, чтобы не «сбрить счастье».
Проверил пистолет, личный «вальтер», который отец привез с войны домой и который тщательно прятал от сына. Открылся за неделю до смерти. «Бери. Твой будет. Нам с тобой без оружия никак нельзя».
После легкого завтрака – чашечки кофе и бутерброда с сыром – обошел вокруг весь дом № 26, подобно полководцу, осматривающему будущее поле битвы. Особое внимание проявил к бункерной мусоропровода, заглянув в глухую грязную комнатку в цокольном этаже, заставленную почти сплошь железными контейнерами. Дверь ее не запиралась, и это его очень устроило. Из бункерной он направился в пультовую лифтера-диспетчера. Показав дежурной еще не сданное удостоверение, он попросил ее отключить все лифты в доме № 26, с одиннадцати утра на полчаса. На недоуменный взгляд крашеной лимитчицы коротко бросил:
– Операцию проводим. Так надо.
– Понятно! – поспешила и даже радостно согласилась дежурная. – Всех бы их к ногтю. Развелось на нашу голову. Вы не сумлевайтесь. Отключу как надо. Хоть на полчаса, хоть на час, хоть на сутки. Лишь бы всех их… Ух! У меня сеструху обокрали.
Еремеев взглянул на часы. Без четверти одиннадцать. Ну что ж, ее мальчики уже наверняка в «Метле» позиции заняли. Ждите, ждите. Здесь при ней один-двое советчиков-распорядителей, помчатся вместе с ней на Арбат.
Сердце бешено колотилось, когда он вошел в подъезд ее дома. В холле, где висели три телефона-автомата, никого не было. Он набрал ее номер и оглянулся. Никого.
– Я слушаю!
– Карина, это я. Деньги приготовила?
– Да.
– Они с тобой?
– Конечно.
– Теперь слушай внимательно. Оттого, как ты выполнишь мои указания, зависят твоя свобода, безопасность и вообще вся твоя жизнь. Ты поняла?
– Разумеется.
– У тебя есть под рукой трехлитровая банка?
– Сейчас посмотрю… Есть! – удивленно откликнулась Карина.
– Теперь заверни деньги в полиэтиленовый пакет и засунь в банку. Быстро!
Наверное, это было непросто – впихнуть в неширокое горло триста купюр. Но она впихнула.
– Дальше что?
– Уложи банку в пластиковый пакет.
– Уложила.
– Какого цвета?
– Зеленого. Фирма «Аквариус».
– Ты одета?
– Да.
– Сколько времени понадобится тебе, чтобы выйти на лестничную площадку?
– Ну… Две минуты.
– Даю тебе три. Подойди к мусоропроводу и брось пакет туда. Если просрочишь – жди повестку в ФСК. Все! Время пошло.
Он повесил трубку и метнулся вон из подъезда. Стометровку до бункерной он преодолел меньше чем за минуту. Из нижнего обреза трубы мусоропровода шмякнулась в подставленный контейнер бутылка из-под шампанского, прошелестела гроздь банановой кожуры вместе с пластиковым стаканчиком из-под йогурта. Зеленого пакета не было. Он заглянул в контейнер. Это был роскошный натюрморт из смятых пестрых коробок, цветастых облаток, упаковочной фольги. Неужели не сбросит? Оставалась минута до условленного срока. Еремеев обвел взглядом бункерную. Никогда бы не подумал, что в таких стенах будет решаться его жизнь…
В трубе зазвенело бьющееся стекло, и в контейнер упал сверток. Пакет! Зеленый!
Он вытряхнул осколки банки и вытащил из пластикового пакета тугой сверток зеленых купюр. В карман не засунешь. Куда? Пустячок, который он не предусмотрел, мог сорвать сейчас всю операцию. Попробуй выйди им навстречу с такой пачкой.
Джинсы – самая неудобная в мире одежда. В карманы джинсовых брюк запихнешь разве что носовой платок…
Он сунул доллары в пустую коробку из-под «Педигрипала» и бросил ее под угловой контейнер. Выскочил из бункерной. Вошел в подъезд и стал подниматься по лестнице. Они уже катились ему навстречу – два взмокших амбала, ухватываясь на поворотах за перила. Еремеев вжался спиной в стену, и они пронеслись мимо него, как два запаленных волкодава. Он успел запомнить лицо переднего: осклабленные золотые зубы под навесом черных усов.
«Давайте, ребята, давайте, носы только не расшибите, бультерьеры хреновы…»
Он поднялся на третий этаж, открыл неопломбированный пожарный шкаф и сунул ключи от почтового ящика в зев крана-гидранта. Спустился вниз вместе с компанией возмущенных жильцов: «Опять лифты встали! И жаловаться некуда и некому…» Бультерьеры рыскали вокруг дома. Потом побежали зачем-то к троллейбусной остановке. Он вошел в бункерную и нащупал под контейнером пакет из-под собачьего корма. Доллары лежали на месте.
Еще раз отыскав взглядом фигурки неудачливых охотников, он ринулся в противоположную сторону – в лабиринт складских заборов и подъездных железнодорожных путей. В пустом товарном вагоне пересчитал пачку. Слава богу, не «кукла». Почти новые «франклины» девяностого года.
Он вышел к бывшему Дворцу водного спорта, а теперь дельфинарию и позвонил из фойе.
– Карина? Я все получил. Спасибо. Спустись на третий этаж, там в пожарном шкафу ключ от почтового ящика. Прямо в кране, завернут в конфетный фантик. Ключиком откроешь в подъезде почтовый ящик для заявок. Там найдешь то, что обещал. И… завязывай с этим делом!
Она молча швырнула трубку.
Глава шестая. Паук-птицеед
«Разожми зубы, гад! Дыши ровнее, ритмичнее… Ты же сейчас инфаркт схватишь! – командовал сам себе Еремеев, прислушиваясь к рывкам ноющего сердца. – Расслабься! Согрей лицо ладонями… Так. Чего распсиховался? Все как надо. Все прекрасно. Просто замечательно! Вон на подоконнике пачка “капусты” – тридцать тысяч долларов – пропуск в новую жизнь. Жизнь без нервотрепки, без будильников и начальства, без просьб отстегнуть до зарплаты десять “штучек”. Живи не хочу. Плыви, лети, кати на все четыре стороны. Свобода, бля, свобода, бля, свобода… Так, теперь, кажется, поется?
Свобода… А ведь в самом деле – свободен».
Расслаблены мышцы лица и тела. Сердце бьется ровно, ритмично, замедленно…
«Перенервничал, конечно, с этой чертовой “зеленью”. Нервы ни к черту…
Главное, определить причину стресса – и тогда отпустит… Вот уже отпускает…
Мое сердце бьется спокойно и ровно…
Операцию провел на пять баллов. Все было продумано и проведено четко. Объявляю вам благодарность, капитан Еремеев. Вот только девчонку жалко. Уберут. Засветилась. Тридцать тысяч не пожалели, но ее спасли… Уберут – факт. Красивая. Жалко. Наверное, и сама не знала, что так быстро все для нее кончится. Сама виновата. Деньги больше жизни любила. Глупая. Двадцать лет. Девчонка еще. Уберут. И очень скоро. Может быть, даже этой ночью».
Еремеев встал и прошел на кухню за валокордином, хранившемся в холодильнике. Сердце не на шутку расходилось.
Дурак. Спать ложиться надо вовремя. Курить бросить. Нормально жить и питаться.
Губы слегка обожгло пряной хвоей… Присел на подоконник. Окно на двадцатом этаже не горело. Может, уже прикончили?
Рука потянулась к телефону.
«Не делай глупости!..
Только проверю – жива или нет?
Наверняка жива. А свет не горит, потому что уже второй час.
Но по “ящику” сейчас забойный фильм. Вон у соседей окна болотными огоньками синеют. Пол-Москвы смотрит.
А она спит.
С кем?
С тем, кто ее прикончит.
Жалко девку.
Хороша Маша…
С моей подачи прикончат…
А она своим зельем скольких изувечила, в могилу свела?
Не ведала, что творит.
Незнание закона не освобождает от ответственности. Да и знала же, что не сахарную пудру перевозит. Все! Конец дискуссии. Спать!»
Но палец сам набрал цифры запомнившегося номера. Номера машин и телефонов Еремеев научился заучивать еще на флоте – по особой мнемосхеме. Намертво.
В трубке пипикнуло, затем завыли долгие гудки.
«Ну конечно же телефон с определителем.
Говорить не буду. Только послушаю – жива или нет».
– Алло! – откликнулся недовольно сонный женский голос.
«Она?»
– Прошу прощения за поздний звонок. Но это я…
– Мы, кажется, рассчитались?
– Да, все точно. Спасибо!
– Так в чем дело?
– В вас… – и тут же перешел на ты. – Тебе твои шефы не простят засветки. Ты это понимаешь?
Трубка промолчала и резко выпалила:
– А тебе какое дело?
– Молодая. Красивая. Жалко.
– Жалко у пчелки. Шел бы ты, заботливый!..
– Я-то уйду. Но ты крепко подумай. И еще одно. Не напрягай зря своих ребят. Они и так устали.
– Это насчет чего?
– Насчет телефонного номера, который сейчас на твоем табло светится. Звоню от случайных людей. Через четверть часа меня здесь не будет. Спокойной ночи, малышка!
Она швырнула трубку. Он – тоже.
Дурак! Узнать по телефонному номеру адрес дело пятнадцати минут. Тридцать минут на дорогу. Через сорок-полста минут могут заявиться… Питон чувствительный! Мягкое у тебя сердце, Еремеев, как валенок. Он натянул джинсы, свитер, достал из-под подушки пистолет и сунул в карман кожаной куртки.
«Ваше решение?!»
Он глянул на часы: светящиеся стрелки сжимали цифру «два». В роковые минуты внутренний голос переходил на язык приказа. Срабатывала генетика четырех офицерских поколений.
«Докладываю решение: ставлю “маячок” и покидаю квартиру с “тревожным” чемоданчиком. Веду из укрытия наружное наблюдение за подъезжающими к подъезду машинами. С началом движения электричек убываю в Хотьково и живу у Тимофеева до принятия дальнейших решений…»
«Тревожный» чемоданчик, с которым он несся когда-то по боевой тревоге из дома на подводную лодку (смена белья, бритвенный прибор, флакон одеколона, карманная фляжечка с коньяком и карманного же формата томик Гумилева) хранил ныне совсем другие вещи: свежую тельняшку, кортик, «звезду шерифа» за автономку (вырезал аппендикс у боцмана под водой в Средиземном море) и «звездочку» за Афган (за десять рейдов в горы со спецназом), пару потрепанных полевых погон, с которыми вернулся из Кандагара, резной кедровый складенец Соловецкого монастыря (бабушкин подарок), семейный фотоальбомчик, две запасные обоймы к пистолету, диплом, орденские книжки.
Осмотрев комнату, он снял со стены старинный сифонный барометр, память об отце, и, упаковав его в рекламную газету «Экстра М», забивавшую каждое утро почтовый ящик наглухо, уложил реликвию поверх всех вещей. Все? Ах да – пакет с долларами на подоконнике… Он засунул «зелень» между карманной «шильницей» со спиртом и плиткой «аварийного» шоколада. Теперь все. Увесистый, однако, чемодан.
Телефонный звонок взрезал полуночную тишину. Снял трубку:
– Кто там?
– Это я, – раздался ее голос.
– Номер проверяешь? Определитель не врет. Только ты меня с порога вернула. Больше тебе эти цифры не понадобятся.
– Да не нужен мне твой телефон! Я просто хочу сказать, что ты передергиваешь. Нечестно играешь…
– То есть?
– Ты же ведь сахар подсыпал вместо порошка!
– А насчет порошка у нас договора не было. Улику – самую главную – я тебе вернул. А вот насчет порошка – извини. Я эту гадость в унитаз высыпал. Зачем людей травить?