
Полная версия
Россия и мусульманский мир № 7 / 2014
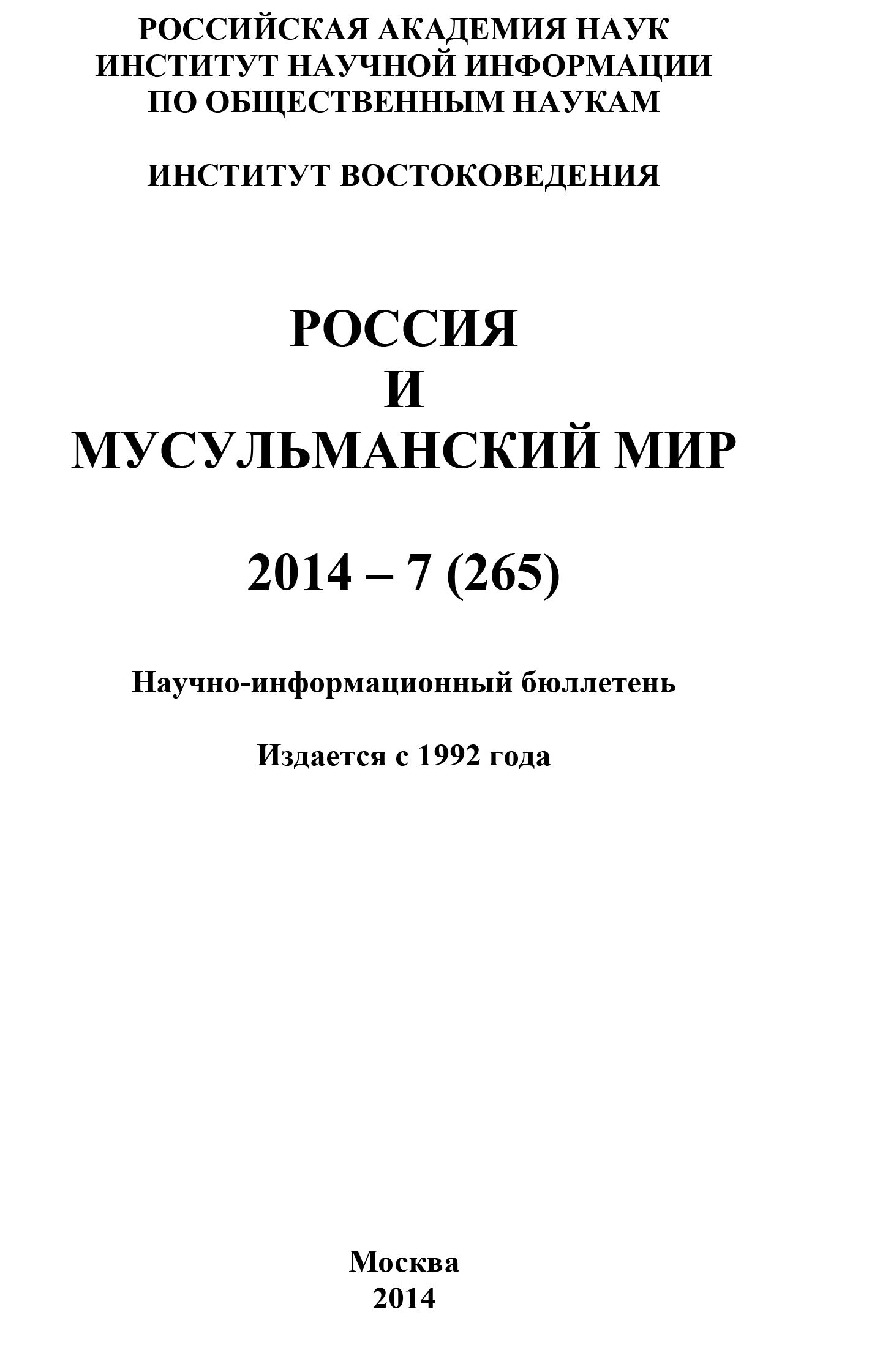
Россия и мусульманский мир Научно-информационный бюллетень 2014 – 7 (265)
КОНФЛИКТУ ЦИВИЛИЗАЦИЙ – НЕТ!
ДИАЛОГУ И КУЛЬТУРНОМУ ОБМЕНУ МЕЖДУ ЦИВИЛИЗАЦИЯМИ – ДА!
Современная Россия: Идеология, политика, культура и религия
Энергетические шахматы: Партия России
Э. Султанов, кандидат юридических наук (МГИМО (У) МИД РФ)Приход к власти Владимира Путина совпал с началом нового периода роста цен на нефть на мировых рынках. В свою очередь высокие цены на энергоресурсы сыграли важную роль в обеспечении социально-политической стабильности в России. Поддержание этой стабильности стало для Москвы одним из приоритетов, определяющих, в том числе, и ее внешнюю политику.
Газ против нефтиВ 1970-е годы средняя цена нефти выросла по сравнению с предыдущим десятилетием более чем в 10 раз. Причем положительный эффект для Советского Союза от этого был гораздо выше, чем для других стран – экспортеров углеводородного сырья. В то время как страны ОПЕК снизили поставки на мировой рынок, СССР, наоборот, увеличил производство нефти (с 285 млн т в 1970 г. до 527 млн т в 1979 г.). Рост доходов от экспорта нефти во многом обеспечил социально-политическую стабильность Советского Союза в 1970-е и начале 1980-х годов.
Во второй половине 1980-х годов более чем двукратное падение цен на углеводородное сырье на мировом рынке привело как к социальной, так и к политической дестабилизации в СССР. В 1990-е годы ситуация на энергетическом рынке, учитывая инфляцию, ухудшилась даже по сравнению с предыдущим десятилетием. Фактически ситуация 1970-х годов повторилась в точности наоборот: Россия не только потеряла на цене, но и на объемах, снизившихся практически в два раза (до 305 млн т) по сравнению с пиком производства в 1987 г. (569 млн т).
Начиная с 1999 г., т.е. в период, когда Владимир Путин стал премьер-министром России, цены на углеводородное сырье начали вновь расти. Причем в среднем по сравнению со второй половиной 1990-х годов цена нефти в 2000-х годах выросла более чем в 4– 5 раз. Одновременно восстановилось и производство нефти (до 480–490 млн т). А доля России в мировой добыче нефти в течение 2000–2013 гг. возросла с 8,9% до более чем 13%. При этом, даже несмотря на новый золотой период нефтяной отрасли для Москвы в 2000-х годах, оставался открытым вопрос, как избежать потенциального снижения цен на энергоресурсы.
Дело в том, что у Москвы нет действенных инструментов влияния на стоимость углеводородного сырья. Прежде всего, Россия не обладает запасом мощностей, которые можно по мере необходимости задействовать как для повышения, так и для снижения производства. Зато такой запас есть у другого нефтяного лидера, Саудовской Аравии, которая может в случае необходимости за короткое время нарастить или снизить добычу на несколько миллионов баррелей. Москва не может влиять и на политику стран-экспортеров, как это делает Эр-Рияд, фактически являющийся лидером ОПЕК. Кроме того, по доказанным запасам углеводородного сырья Россия занимает лишь девятое место в мире.
Цены на газ, в отличие от нефтяных, определяются на региональном уровне. В этом плане у Москвы есть гораздо больше возможностей оказывать влияние на газовый рынок, чем на нефтяной. Дело в том, что Россия является безусловным лидером не только по объемам добычи, но и с точки зрения доказанных запасов газа. А основные конкуренты Москвы на этом рынке гораздо в большей мере подвержены геополитическим рискам: достаточно сказать, что Катар и Иран «делят» одно и то же газовое месторождение.
Газовый рынок предполагает более долгосрочные отношения между поставщиком и покупателем из-за преобладания трубопроводных поставок по сравнению с танкерными и ограниченности в этой связи оптового рынка. Одновременно предполагается, что спрос на газ на мировом рынке будет расти более быстрыми темпами, чем на нефть: по оценкам Международного энергетического агентства, на 1,6% в год до 2035 г., т.е. как минимум в два раза быстрее… Причем доля газа должна увеличиться в энергетической корзине с 21% в 2010 г. до 25% в 2035 г.
Соответственно, для обеспечения большей внутренней стабильности российское руководство в 2000-х годах сделало ставку на более перспективный и более контролируемый по сравнению с нефтью газ. И весьма показательно, что государство не только не снизило свой пакет акций в Газпроме, но и довело его до контрольного (более 50%). При этом и возник геоэкономический вопрос: куда направить экспортные усилия?
Европейское направлениеУ Москвы было несколько альтернатив реализации экспортной стратегии. В этот период, например, ряд российских нефтяных компаний начали танкерные поставки в США и одновременно по железной дороге – в Китай. Однако для газового экспорта основным направлением было выбрано европейское. Дело в том, что именно европейский рынок является одним из наиболее перспективных. Это связано с продолжающимся снижением местного производства, прежде всего в Северном море, а также с тем обстоятельством, что доля газа в энергопотреблении ЕС будет расти. Для этого есть и экологические основания, связанные как с Киотскими соглашениями, так и с ограничениями, наложенными на атомную энергетику.
В пользу европейского варианта говорило сразу несколько факторов, включая хорошие личные отношения, сложившиеся между Владимиром Путиным и рядом европейских лидеров (Аз-нар, Берлускони, Ширак, Шрёдер). Показательно, что хабом для дальнейшего реэкспорта и основным рынком для газопровода «Северный поток» должна была стать Германия, а для «Южного» – Италия. «Северный поток» после окончания политической карьеры возглавил Герхардт Шрёдер, а руководство «Южным» было предложено бывшему премьер-министру Италии Романо Проди.
Внешняя политика США при Джордже Буше создавала дополнительные условия для альянса между Москвой и основными европейскими столицами – Парижем и Берлином. Причем, несмотря на сдержанную позицию Еврокомиссии по энергетическому партнерству с Россией, реальных альтернатив по импорту газа у Брюсселя в начале 2000-х годов не было. Конкурирующий проект «Набукко» фактически забуксовал из-за отсутствия сырьевой базы. Возобновляемая энергетика, при всей своей популярности, была дорогим удовольствием и поэтому составляла лишь незначительный процент от общеевропейского потребления. Ставка же на уголь была невозможна по экологическим причинам.
В рамках этой стратегии Россия допустила ключевые компании из наиболее близких европейских стран к участию в проектах на своей территории. В частности, итальянская Eni заключила соглашение о стратегическом партнерстве с Газпромом, которое предусматривает, в том числе, и совместную разработку ряда месторождений, в частности Самбургского. Одновременно Газпром получил возможность напрямую работать на итальянском газовом рынке. Однако ключевым элементом российской энергетической стратегии стал запуск двух новых газопроводных проектов. Общие мощности «Северного потока» и «Южного потока» должны составить около 120 млрд м3 в год – это в 4 раза больше, чем нереализованный «Набукко», или в 12 раз больше, чем оставшийся от него ТАР.
Москва также рассчитывала, что энергетика станет основой экономического партнерства, включая и сотрудничество в высоко-технологической сфере. В этой связи примечательно, например, что российский Госбанк вошел в акционерный капитал авиапромышленной группы EADS. Одновременно российские госкорпорации активно начали сотрудничать со своими партнерами в Италии, Франции и Германии.
Несмотря на отдельные успешные проекты с компаниями из стран Европы, партнерства с ЕС на энергетическом поле не получилось. Брюссель изначально настороженно относился к перспективам слишком существенного российского проникновения. Например, полная реализация всех трубопроводных инициатив уже к 2020 г. должна была увеличить долю российского газа в ЕС до 30%. Однако в условиях расширения рынка СПГ и сланцевой революции в Америке и Австралии объективная зависимость от России должна снизиться даже без «Набукко». Проект «европейского газопровода» спокойно закрыли именно в тот момент, когда появилась реальная перспектива газового экспорта из Канады и, возможно, даже США. Кроме того, Москва лишилась своих персональных козырей: в нынешней «Большой восьмерке» нет «старых друзей» Владимира Путина.
Таким образом, Москва столкнулась с нежеланием Европы строить стратегическое партнерство. Попытки довести газопроводы любой ценой скорее вызвали ответную оборонительную реакцию. Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Газпрома, сумма штрафа по которому может составить до 10% от общего оборота компании за год. Причем это расследование может продолжаться в течение нескольких лет, вплоть до того момента, когда станет окончательно понятно, насколько американский газ сможет стать альтернативой российскому. Кроме того, был ограничен доступ газа из уже запущенного «Северного потока» в общеевропейскую сеть.
Сотрудничество не состоялось и в других сферах. Полноценной автомобильной локализации европейские концерны так и не обеспечили, одновременно была заблокирована продажа OPEL российскому консорциуму во главе со Сбербанком. Европейцы отказались реализовывать с Москвой свою спутниковую программу: проекты двойного назначения предполагают совершенно другой уровень доверия. Что же касается участия российского Госбанка в акционерном капитале EADS (другой чувствительный актив), то оно осталось чисто финансовым: Москве не позволили даже провести своего представителя в Совет директоров авиастроительной корпорации. В итоге акции EADS перешли от активного инвестора (ВТБ) к пассивному (ВЭБ) с последующей продажей российской доли в авиастроительной корпорации. Другой совместный российско-итальянский авиационный проект SSuperjet оказался на грани банкротства, в том числе и из-за отсутствия европейских заказов.
В международно-политической плоскости отношения также не переросли в стратегическое партнерство. Если во время вторжения США в Ирак Москве удалось привлечь на свою сторону ряд европейских столиц, то сегодня по Сирии Россия оказалась фактически в изоляции. Реализация ЕвроПРО также началась на фоне удачного для европейцев разоружения российской энергетической угрозы.
Китайское направление. Сотрудничество с Китаем в рамках ШОС являлось элементом энергетической политики Москвы. Дело в том, что создание «восточного блока» позволило максимально вовлечь Китай в отношения с центральноазиатскими странами. Таким образом, страны региона, прежде всего Казахстан и Туркменистан, направили свой энергетический экспорт в сторону Китая. Это снизило потенциал их участия в спонсируемом европейцами «Набукко», тем самым убирая конкурентов для российского экспорта на западном направлении.
Что касается китайского рынка, то Москва фактически уступила его в пользу европейского в ситуации, когда у нее был реальный шанс закрепиться на нем. Дело в том, что вплоть до 2008 г. темпы роста экономики Китая составляли около 12% в год, что означало повышенные потребности в энергоресурсах. Причем доля газа в общем энергопотреблении Китая должна была только расти: если в 2010 г. она составляла 4%, то в 2015 г. должна была составить уже 8%.
Необходимо также учесть, что Пекин крайне болезненно воспринимал возможность перекрытия поставок. Именно в этот период впервые появились угрожающие, в том числе и танкерам, «сомалийские пираты», а в отношении Ирана и Судана начали вводиться новые санкции. Соответственно, в плане создания энергетического альянса Пекин был крайне заинтересован в Москве.
Реализация ориентированных на Китай проектов началась уже после мирового кризиса, когда Москва была больше заинтересована в допуске к финансовым ресурсам Пекина. Кроме того, после 2008 г. темпы роста китайской экономики существенно снизились. На этом фоне уже не столько Россия обеспечивала себе стабильный рынок, сколько Китай – стабильное снижение к обще-рыночной цене.
Контроль за поставкамиФактически Москве так и не удалось реализовать свою энергетическую политику, основанную на отношениях с конечными потребителями. Сланцевая революция создает условия для возвращения ситуации 1980-х годов, когда США и Саудовская Аравия совместно обвалили цены на нефтяном рынке, тем самым нанеся удар по советской экономике. Сегодня эта ситуация может повториться на газовом рынке региона МЕЕТР (Middle East, Europe, Turkey, Russia). Сами Соединенные Штаты в течение ближайших нескольких лет могут стать ключевым экспортером газа в Европу. А с учетом влияния на Ближнем Востоке именно Вашингтон, а не Москва будет определять цены на газ в Европе. В свою очередь, потенциальное «опускание цен» создает риски с точки зрения наполняемости российского бюджета, а соответственно, и социально-экономической стабильности в России.
Однако если не допустить газового экспорта из США Москва не может, то повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке она вполне способна. У России есть возможность усилить свое влияние в регионе через отношения с двумя ключевыми игроками – Турцией и Ираном. Причем тема высоких цен на сырье потенциально может заинтересовать и Турцию, если в результате она сумеет из страны транзита стать энергетическим хабом – продавцом сырья.
В отличие от остальных партнеров Москвы для Турции отношения с Россией в энергетической сфере носят стратегический характер. То есть без согласованной политики могут пострадать и одни, и другие интересы. Замедление роста турецкой экономики неизбежно сказывается и на импорте российских энергоресурсов. Показательно в этом плане, что даже сирийская проблема не смогла усложнить турецко-российское партнерство. Более того, Турция подписала соглашение с ШОС, чтобы обеспечить дополнительный инструмент для диалога, прежде всего, с Россией.
Опыт успешного геополитического партнерства с Турцией у Москвы есть. В начале XX в. «Красная Анатолия» пришла к соглашению с большевистской Россией по переходу Закавказья в сферу влияния Москвы в обмен на определенные территориальные уступки и военно-материальную помощь. В свою очередь, во время конфликта между Россией и Грузией в 2008 г. Турция фактически закрыла Черное море для кораблей НАТО вплоть до окончания конфликта.
Таким образом, усиление двух потенциальных партнеров в регионе играет на пользу России как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе: эти отношения позволят сохранить контроль над ценами на энергоресурсы. Чем больше Турция и Иран будут контролировать ситуацию на Ближнем Востоке, тем больше у них будет ресурсов. Как и в случае «Шёлкового пути», контроль над поставками обеспечивает высокие цены. Потеря же контроля со стороны Оттоманской империи над Ближним Востоком автоматически привела к появлению альтернативных поставщиков и снижению цен.
Тегеран также является одним из ключевых партнеров России в регионе. Причем одним из немногих покупателей российской высокотехнологичной продукции, в том числе и авиации.
В свою очередь, американская администрация ставит больше на создание контролируемого баланса сил в регионе. То есть речь идет о контроле за регионом без проведения дорогостоящих и непопулярных наземных военных операций.
Этот баланс поддерживается в рамках треугольника Саудовская Аравия – Турция – Иран. При этом ни один из участников процесса не должен стать слишком сильным, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. Такая ситуация позволяет контролировать цены на сырье. В этом плане «арабская весна» была положительным явлением с точки зрения противостояния чрезмерному усилению Ирана. Однако на фоне усиления альянса Турция – «Братья-мусульмане» риски возникали для второго участника «антииранской коалиции» – Саудовской Аравии. Дело в том, что «стареющий режим» фактически оказывался окруженным альтернативными силами, с одной стороны, близкими Ирану, с другой – Турции и «Братьям-мусульманам». Достаточно сказать, что в Йемене местные «Братья» выиграли на выборах, а в Иордании представляют ключевую политическую силу в стране. В этих условиях, как и во времена Насера, для Эр-Рияда, а также для других заливных монархий возникала реальная угроза смены режима.
Переворот в Египте фактически стал продолжением политики удержания существующего баланса. Однако возникший конфликт между Эр-Риядом и «Братьями-мусульманами» фактически создал плацдарм для потенциального альянса между конкурентами Саудовской Аравии. В этом плане показательно, что в последнее время вновь усилилось взаимодействие между Тегераном и движением ХАМАС.
Для недопущения этого союза фактически вновь была поднята тема Сирии. Дело в том, что этот вопрос продолжает разъединять Тегеран и Анкару. В этом плане удар по позициям Асада должен вызвать ответную реакцию Ирана, в том числе, в отношении Турции. Это приведет к снижению самостоятельности в игре правительства Эрдогана и его более плотному взаимодействию с Вашингтоном и НАТО.
Итогом данной игры должно стать ослабление ключевых региональных игроков – Ирана и Турции. Причем, если в краткосрочной перспективе за счет роста котировок ситуация может оказаться выгодной для Москвы, то в перспективе она усилит контроль за ценами со стороны Вашингтона. Кроме того, и Турция, потеряв надежды на получение своей доли сырьевого пирога, будет больше заинтересована в снижении цен, что также негативно отразится на социально-экономической стабильности в России.
В этой ситуации Москва заинтересована в стабилизации отношений между Ираном, с одной стороны, и Турцией и «Братьями-мусульманами» – с другой. Основанием для сближения может стать как раз ситуация в Египте. При этом такая возможность реально существует, учитывая, что основной интерес как для Турции, так и для Ирана представляют богатые монархии Персидского залива, а не экономически затратные проекты – Сирия и Египет.
«Вестник аналитики», М., 2014 г., № 1, с. 64–70.Театр террористических действий
Б. Ахмедханов, журналистСовременный мир неспокоен, количество проблемных регионов растет. Остановить этот процесс невозможно – пришлось бы демонтировать сложившийся миропорядок и создать новый. Но можно определить некие тенденции и нанести на карту потенциальные горячие точки. Естественно, мы не собираемся прогнозировать техногенные катастрофы и межгосударственные конфликты. Однако назвать регионы, в которых будут наблюдаться вспышки насилия, связанные с таким явлением, как «международный терроризм», не составит труда.
Надоевший КавказПоскольку нас в первую очередь интересует Россия, то с нее и начнем. Точнее, с ее крайнего юга, где расположены северокавказские республики, головная боль, мучающая Москву уже более 20 лет. Несмотря на бесконечные спецоперации и бодрые рапорты об уничтожении очередных лидеров бандподполья, бандитов в регионе меньше не становится. Удивляться тут нечему, потому что на Северном Кавказе идет борьба не с причиной, а со следствием проблемы. Более того, сама причина террористической активности определена неверно. Начнем с того, что бесконечно повторяемая мантра о необходимости создания в республиках рабочих мест убедит разве что домохозяйку, черпающую знания о Кавказе из дешевых детективов. Любой мало-мальски знакомый с кавказскими реалиями человек скажет, что можно построить по заводу на каждого жителя, но проблемы это не решит. И даже не приблизит нас к ее решению.
Северный Кавказ всегда был трудоизбыточным регионом, и мужчины испокон веку уезжали на заработки в другие районы России, и даже за границу. Потом они возвращались на родину, строили дома, женились и заводили детей. Никто не жаловался на отсутствие работы и не хватался по этому поводу за автомат. Нет заработка дома – найдется в другом месте. А в наши дни те, кому нужна работа, может обрести ее на месте. Было бы желание. Вот только желания этого часто нет. В общем, на Северном Кавказе две основные проблемы. Первая – дотационная экономика. За 20 лет бесконтрольной дотационности сложилась порочная система откатов и распилов федеральных денег, часть которых уходит, в том числе, и в «лес» – в обмен на гарантии безопасности. Получается, что Центр сам финансирует боевиков, а чиновники на местах все громче кричат о том, что именно их республики находятся «на острие борьбы», являются форпостом, а форпост, как известно, нужно хорошо кормить.
Деньги в обмен на лояльность – этот механизм работает до поры до времени. Результат подобной порочной практики – всевластие местных правителей, неприличное богатство допущенных к кормушке и озлобление всех остальных.
Вторая проблема. Уродливая экономика откатов и распилов порождает столь же уродливую политику. Рядовые жители республик, не допущенные к принятию решений ни на одном из уровней, фактически бесправны. Если у вас во дворе вырубают последние деревья, а на месте детской площадки вырастает заслонившая солнце элитная многоэтажка, принадлежащая местному депутату, то поневоле задумаешься если и не о несовершенстве Вселенной, то хотя бы о пороках отдельно взятой страны или республики. Или если кого-то из ваших близких безнаказанно унижают в полиции, то желание отомстить становится вполне понятным.
Внутренний аспект ситуации на Северном Кавказе сильно облегчает задачу тем силам, которые заинтересованы в нестабильности Юга России. Особое беспокойство вызывает Дагестан – самая большая по населению и территории республика, граничащая с пятью иностранными государствами. По суше – с Грузией и Азербайджаном, а с Туркменией, Ираном и Казахстаном – по морю. Протяженность госграницы России по территории Дагестана составляет 1180 км, протяженность береговой линии на Каспии – более 500 км.
Велика вероятность того, что Дагестан может стать прибежищем международных террористов со всего мира – точно так же, как Чечня в 1996–2000 гг. Реализации этих планов способствуют два фактора: крайне высокий уровень коррумпированности местного чиновничества и труднодоступность большей части территории республики – в том числе в местах прохождения государственной границы. Пока данных о нахождении боевиков-иностранцев в Дагестане нет, но они могут появиться в любой момент. Это дополнительный фактор риска наряду с уже имеющимся местным подпольем и неуклонным ростом радикальных настроений среди молодежи.
Отдельного упоминания заслуживают попытки посеять рознь между суннитами и шиитами. Дагестан – единственная из северокавказских республик, где есть небольшие шиитские общины, у которых никогда не было проблем с единоверцами, исповедующими ислам иного толка. Но в последнее время кто-то, как по команде, упорно провоцирует конфликт. Шиитам, которых называют изменниками ислама, постоянно угрожают расправой – вещь совершенно неслыханная еще пару лет назад. Судя по количеству вооруженных людей в камуфляже, охранявших прошлой осенью шиитскую мечеть в Махачкале во время религиозного праздника, угрозы эти более чем реальны.
Так что в ближайшее время на Северном Кавказе, и в частности в Дагестане, вряд ли наступит спокойствие. Скорее всего, ситуация ухудшится, поскольку основополагающие проблемы остаются нерешенными, чем умело пользуются идеологи экстремистов.
Остается добавить, что Северный Кавказ – пожалуй, наиболее уязвимая в плане безопасности часть России, и те силы, которые хотят создать побольше проблем нашей стране, в первую очередь будут наносить удары по этому региону. В принципе, террористическая война на российском Юге и в Сирии выгодна одним и тем же субъектам международной политики. Сирия интересует их как транзитная территория для транспортировки газа, а Россия, которая поставляет энергоносители в Европу, – как страна-конкурент, которую нужно ослабить.
Поволжье: Спокойствие закончилосьС некоторых пор многие эксперты упорно твердят о террористической угрозе в Поволжье. Двадцать лет назад о терактах и боевиках в этом регионе говорилось исключительно в сослагательном наклонении. Теперь же террористов ловят уже не в буйной Махачкале или Назрани, а в образцово-показательной столице благополучного Татарстана. То есть в самом центре России. Получается, дело вовсе не в отсутствии рабочих мест. Где-где, а в Казани найти работу не проблема, да и зарплаты там неплохие. «Если появляются пояса шахидов, – утверждает руководитель Приволжского центра религиозных и этнорелигиозных исследований Раис Сулейманов, – мы понимаем, что возникает целая индустрия смертников. Есть люди, готовые пойти на самоубийство, как они считают, ради высоких целей». Эти слова Сулейманов произнес год назад на мероприятии, посвященном итогам спецоперации в Казани, во время которой погибли сотрудники ФСБ. Мероприятие называлось «Послеоперационный период: состояние тяжелое?»
Какие выводы делают эксперты из ситуации в Поволжье? Вывод первый: террористическая активность и рост радикальных настроений имеют мало общего с безработицей и низким уровнем жизни. Татарстан – один из самых благополучных регионов России, а уровень безработицы здесь рекордно низкий – 1,19%, по данным на июль 2012 г.









