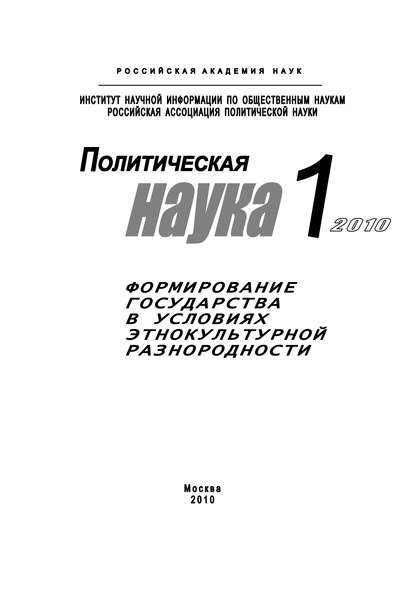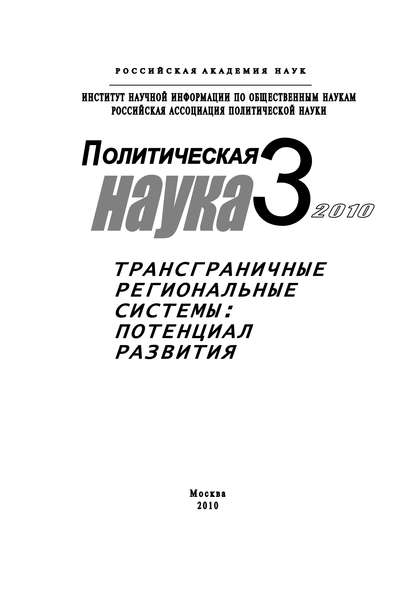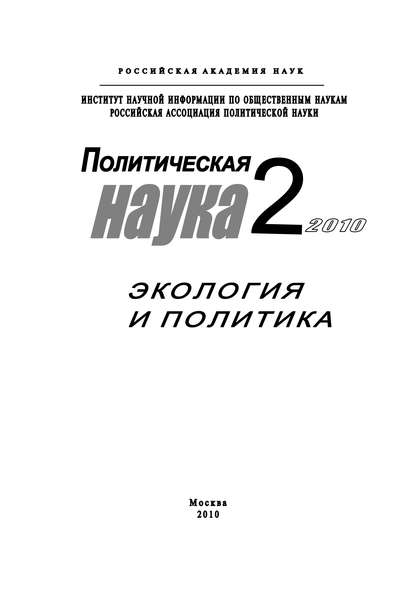Полная версия
Политическая наука №3 / 2017. Советские политические традиции глазами современных исследователей
Отношение к дореволюционному наследию было более сложным. С одной стороны, начатые преобразования интерпретировались как «восстановление связи времен», разорванной в годы советской власти. С другой стороны, в дискурсе ельцинской элиты дореволюционное прошлое нередко описывалось сквозь смысловую рамку авторитарной традиции, которую преодолевает современная, демократическая Россия. Напоминания о хрупкости ростков либерализма выполняли мобилизационную функцию: они должны были оттенить грандиозность переживаемых реформ и одновременно подчеркнуть связанные с ними риски8. Думается, однако, что стремление элиты начала 1990‐х противопоставлять «демократическую» Россию как «советской», так и «царской» было связано не только с политической прагматикой. Оно опиралось на представления, сформированные советским нарративом о дореволюционном прошлом, стержнем которого была история революционно-освободительной борьбы с самодержавием, увенчавшейся Октябрьской революцией. Критическая реинтерпретация «главного события ХХ века» меняла оценки с плюса на минус, не пересматривая связи событий, заданные прежним нарративом. Это логически вело к выводу о закономерности «тоталитарного» режима на отечественной почве9. Хотя представители ельцинской элиты не делали подобных умозаключений публично, они конструировали образ новой, демократической России, противопоставляя настоящее (авторитарному и тоталитарному) прошлому; идея преемственности с отечественной демократической традицией использовалась в их риторике крайне редко.
Значение революции в официальном дискурсе 1990‐х годов подверглось радикальной переоценке. То, что в советское время интерпретировалось как исторический рывок, позволивший России стать лидером прогресса (по коммунистической версии), трансформировалось в «катастрофу», прервавшую «нормальный» путь развития страны. Действия реформаторов представлялись как возобновление демократического проекта, прерванного Октябрьской революцией. Именно такую смысловую схему событий ХХ в. Б.Н. Ельцин предложил, выступая перед участниками Конституционного совещания – конференции представителей органов государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций, созванной им в июне 1993 г. для завершения подготовки «президентского» проекта новой Конституции Российской Федерации, альтернативного проекту, который был подготовлен Конституционной комиссией Съезда народных депутатов. Обосновывая необходимость «демократической» конституции, решительно порывающей с советскими традициями, Ельцин возводил ее генеалогию к событиям 1917 г.: «С принятием Конституции завершится учреждение подлинной демократической республики в России, – утверждал он. – Судьбе было угодно, чтобы этот процесс растянулся на многие десятилетия. Республика в нашей стране была провозглашена 1 сентября 1917 года декретом Временного Правительства. Ее становление было сразу прервано Октябрьской революцией, которая провозгласила Республику Советов. Сейчас рождается новая республика – Федеративное демократическое государство народов России» [Ельцин, 1993]. Апеллируя к послеоктябрьской истории, Ельцин доказывал нелегитимность противостоящего ему Верховного Совета: «Советы разогнали в 1918 году Учредительное собрание, а оно было сформировано в ходе демократических выборов. Нынешние представительные органы избирались на основе советского избирательного закона, а значит, они остаются продолжателями захваченной силой власти. В демократической системе они не легитимны» [Ельцин, 1993]. Однако Конституция 1993 г., принятая по итогам насильственного «разрешения» конфликта между президентом и Верховным Советом, не могла восприниматься как полноценное «восстановление легитимности».
В феврале 1996 г., в рамках фактически начавшейся президентской избирательной кампании, Ельцин включил в свое ежегодное послание Федеральному собранию РФ большой фрагмент, излагавший официальный нарратив истории ХХ в. В нем уже не было речи о преемственности между Февралем 1917 г. и новой, демократической Россией, зато подробно описывались катастрофические последствия «особого пути», начатого Октябрем. Напоминая, что в ХХ в. другие «государства отказывались от авторитарных форм правления, переходили к демократии, к поиску разумных сочетаний свободы и справедливости, рынка и социальных гарантий государства», Ельцин признавал, что «царская Россия, обремененная грузом собственных исторических проблем, не смогла выйти на эту дорогу» [Ельцин, 1996]. Он утверждал, что отсутствие демократических традиций в совокупности с «глубиной общественных противоречий» предопределили «радикализм российского революционного процесса, его стремительный срыв от Февраля к Октябрю». В свою очередь, Октябрьская катастрофа стала разрушительным фактором, лишившим Россию накопленного культурного достояния («Этим разрушительным радикализмом – “до основанья, а затем” – объясняется тот факт, что в ходе ломки прежних устоев оказалось утрачено многое из достижений дореволюционной России в сфере культуры, экономики, права, общественно-политического развития» [там же]). Ельцин крайне негативно характеризовал предложенную большевиками «сверхжесткую мобилизационную модель развития» и демонстративно отказывался от позитивной оценки того, что прежде ставилось в заслугу советскому режиму: он подчеркивал, что «превращение России в мощную военно-индустриальную державу было достигнуто надрывом сил народа, за счет колоссальных людских потерь», и полностью исключил из своего пересказа политической истории России тему Великой Отечественной войны [Ельцин, 1996]10. В контексте избирательной кампании, в которой его главным противником был кандидат от народно-патриотического блока Г.А. Зюганов, Ельцину важно было показать, сколь гибелен путь, на который призывают вернуться его оппоненты. Логика политической борьбы укрепляла стремление властвующей элиты конструировать образ «новой» России по принципу контраста, заостряя негативные оценки прошлого.
Переопределение Октября в качестве «трагедии» и «катастрофы» означало радикальную трансформацию советского мифа: то, что прежде воспринималось в качестве «национальной славы», теперь стало рассматриваться в логике «коллективной травмы». Трудно сказать, имела ли шансы на успех попытка столь радикального замещения фреймов коллективной памяти о некогда «главном событии ХХ века». Однако она не только не была поддержана достаточными ресурсами, но и столкнулась с весьма успешным контрдискурсом, который, в отличие от символической политики властвующей элиты, опирался на менее рискованную стратегию частичной трансформации привычного нарратива.
Главной смысловой доминантой дискурса «народно-патриотической оппозиции» были распад СССР и «разбазаривание» ее достижений. Октябрьская революция, формально сохраняя значение мифа основания исчезнувшей страны, превращалась в удобный для политических манипуляций символ утраты – тем более что сохранение за 7 ноября статуса праздничного дня давало повод для ежегодной коммеморации. В свете итогов завершившейся недавно холодной войны Октябрь 1917 года представлялся как эпизод цивилизационного противостояния Запада с Россией, выступающей в роли «последнего противовеса» его гегемонизму. В рамках такой смысловой схемы Октябрь лишался части своего героического ореола и становился одним из эпизодов многовекового «столкновения цивилизаций». Одновременно он приобретал новое качество, превращаясь из события, разделяющего прошлое на «до» и «после», в своеобразную кульминацию «русского духа» и даже в символ его преемственности. Согласно концепции Г.А. Зюганова, «Советская власть… унаследовала у исторической России как нравственные идеалы, так и ее державный опыт в постройке мощного государства», что и привело к ее небывалому подъему в ХХ в. [Зюганов, 1994, с. 144]. Классовый подход к построению исторического нарратива был заменен националистическим.
Строго говоря, акцентирование преемственности отечественной истории в духе националистической парадигмы ставило под сомнение ее прежнюю функцию, ибо миф основания требует противопоставления «до» и «после». Однако поскольку революция продолжала рассматриваться как событие, причинно связанное с успешной модернизацией, победой над фашизмом, превращением России в великую державу, созданием справедливой системы распределения (пусть и при не вполне эффективной экономике) и др. достижениями, знакомыми по советскому канону, сохранялась возможность использования прежнего смыслового репертуара. В конце концов, Октябрьская революция оставалась центральным элементом коммунистической мифологии, что позволяло опираться на «инфраструктуру» коллективной памяти, унаследованную от СССР, включая традицию ежегодной коммеморации. Как показала К. Смит, начиная с 1991 г. ритуалы празднования 7 ноября менялись, приспосабливаясь к новому контексту: в отличие от критиков Октября, которым не удалось закрепить практику гражданских антикоммунистических контрдемонстраций (они были действительно массовыми лишь в 1991–1992 гг.), его сторонники вполне успешно совершенствовали свои праздничные ритуалы, осваивая новые места памяти [Smith, 2002, p. 81–83]. Благодаря удачно найденной стратегии трансформации советского нарратива коммунисты и их союзники сумели воспользоваться доставшимися по наследству символическими ресурсами, ценность которых усиливалась по мере роста ностальгии по утраченной «стабильности». Даже будучи лишены возможности «инвестировать» в дальнейшее развитие этих ресурсов, на первых порах они пользовались значительным преимуществом перед противниками.
Таким образом, попытки властвующей элиты представить революцию как трагедию, отвечавшие культурной модели проработки «трудного» прошлого, наталкивались на стремление «народно-патриотической» оппозиции превратить ее в одну из несущих опор национальной идентичности. В силу этого в 1990‐х годах Октябрьская революция переоценивалась по принципу игры с нулевой суммой.
После выборов 1996 г., продемонстрировавших готовность значительной части избирателей поддержать кандидата от КРПФ, Ельцин и его окружение начали принимать меры к смягчению конфронтации. 7 ноября 1996 г., за год до 80‐летия Октябрьской революции, Б.Н. Ельцин издал указ, вводивший новую формулу праздника, оставшегося в наследство от советской власти – День согласия и примирения, – и объявлявший 1997 год Годом согласия и примирения. В том же указе было предусмотрено проведение конкурса по созданию памятников, увековечивающих память жертв революций, Гражданской войны и политических репрессий [О Дне… 1996]11. Как вспоминала потом Л. Пихоя, идея переименования праздника возникла в октябре 1996 г. на одном из совещаний у руководителя президентской администрации А. Чубайса: «Сама идея заключалась в следующем: в конце концов, после Великой Октябрьской революции прошло более 70 лет, и можно изменить символику. Почему бы не переименовать праздник Великой Октябрьской революции в праздник, объединяющий всех, в День согласия и примирения? То есть Октябрьская революция всех разделила, но мы не отменяем этот праздник, а переименовываем» [Соколова, Яковлева, 2004]. По-видимому, решение действительно было спонтанным; Ельцин подписал указ через день после операции на сердце, как потом злословили оппоненты, «не приходя в сознание после наркоза».
Ни в 1997 г., ни позже не было предпринято каких-либо попыток сформировать новые сценарии и ритуалы для 7 ноября в качестве Дня согласия и примирения [см.: Пинскер, 1997]. Во время празднования 80‐летия Октябрьской революции Ельцин воздержался от комментариев по поводу юбилейной даты; в своем традиционном радиообращении, прозвучавшем незадолго до праздника, он ограничился призывом не участвовать в осенних мероприятиях оппозиции, а заняться домашними делами: квасить капусту, утеплять окна и вообще готовиться к зиме [см.: Драгунский, 1997]. Таким образом, юбилейная дискуссия о значении революции происходила на фоне демонстративного отказа главы государства обсуждать данную тему. Объявленное «согласие и примирение» не наступило не только потому, что оппоненты оказались к нему не готовы, но и потому, что его инициаторы – президент и его администрация – не проявили должной настойчивости в трансформации одного из основных элементов инфраструктуры, поддерживающей советский миф об Октябре – посвященного ему праздника.
«Апологетический» нарратив 2000‐х: «Октябрьский переворот» или забытая революция?С приходом к власти В.В. Путина в практике политического использования прошлого произошли изменения. В начале 2000‐х годов принцип построения официального исторического нарратива изменился: «новая» Россия была объявлена законной наследницей «тысячелетнего государства», таким образом, во главу угла ставилась преемственность. Не будучи в отличие от своего предшественника связан принадлежностью к политико-идеологическим лагерям 1990‐х годов. В.В. Путин мог себе позволить использовать идеи и символы из репертуара «народно-патриотической оппозиции», казавшиеся абсолютно неприемлемыми «демократам». Новшества заключались не только в избирательной «реабилитации» советских символов: теперь стержнем символической политики стала идея великодержавности, проецируемая на всю «тысячелетнюю историю» России. В путинском официальном дискурсе именно государство (вне зависимости от менявшихся границ и политических режимов) стало представляться в качестве ценностного стержня, скрепляющего макрополитическую идентичность. Такой принцип построения официального исторического нарратива можно назвать апологетическим, поскольку он сосредоточен на «позитивных» эпизодах, поддерживающих высокую коллективную самооценку. Центральным смысловым моментом нового нарратива – своеобразным «мифом основания» современной России – стала Великая Отечественная война [Копосов, 2011, с. 163–164]. При этом прошлое «использовалось» в технике коллажа: на стержень «тысячелетнего великого государства» нанизывались события и фигуры, которые в логике других смысловых схем, конкурирующих в публичном пространстве, представлялись взаимоисключающими.
Это было удобное технологическое решение, позволявшее избирательно использовать советское прошлое, исключая при этом из репертуара наиболее одиозные моменты. В выступлениях Путина и позднее Д.А. Медведева можно обнаружить немало критических оценок советского опыта; речь не шла о его тотальной апологии. Тем не менее тема «трудного прошлого» перестала быть частью официального нарратива12. История СССР оказалась «политически пригодной» прежде всего как история великой державы, которая несмотря на все трудности смогла осуществить (пусть и не вполне совершенную) модернизацию и превратиться в ведущего актора мировой политики. Тоталитарные практики и репрессии были «вынесены за скобки». Как заметил И. Калинин, мы имеем дело с «политикой, направленной на перекодирование ностальгии по советскому прошлому в новую форму российского патриотизма, для которого «советское», будучи лишено исторической специфики, рассматривается как часть широко понимаемого… культурного наследия» [Kalinin, 2011, p. 157]. Примечательно, что сходная редукция «памяти» имела место в массовом сознании [Дубин, 2011, с. 18–19].
В этом контексте теоретически были возможны разные подходы к работе с символом Октябрьской революции: как мы видели на примере «народно-патриотического» дискурса, потенциал «великого события» вполне мог быть использован в качестве строительного материала для «государственнического» нарратива – особенно с учетом вышеупомянутой операции перекодирования. В публицистике того времени не было недостатка в предложениях именно такого варианта «использования» Октября. Одни авторы подчеркивали международный потенциал этого символа: «Впервые Россия (СССР явился лишь временной формой ее существования) в огромной степени влияла на умонастроения в глобальном масштабе. Она предлагала свою модель развития (именно российскую, а не интернационально-коммунистическую) в качестве образца всему миру. Впервые был брошен нешуточный вызов абсолютной ценности западноевропейского опыта для остального человечества» [Никонов, 1999]. Другие интерпретировали Октябрьскую революцию как событие, предотвратившее «распад России» и сохранившее за ней «статус великой державы, а не “чистого листа бумаги”, как того хотел в 1918 году американский президент Вильсон, сводивший в то время границы России “к среднерусской возвышенности”» [Константинов, 2000]. Многие выступали с предложением вернуть прежнее название праздника. Как писал один из авторов «Российской газеты», «нам нет резона стыдиться этого вселенского потрясения, которое в последнее время кое-кто низводит до уровня “большевистского переворота”», поэтому те, кто «предлагает забыть о нем, как о некоей беспричинной семейной склоке, объявив годовщину Октябрьской революции “Днем согласия и примирения”», лишают Россию ее истории [Васильков, 2000; ср.: Константинов, 2000]. Эти и другие подобные публикации были ответом на изменения символической политики, обозначенные первыми шагами Путина на посту президента: казалось, что признание «несомненных достижений» советской эпохи открывает возможность для изменения официальной интерпретации Октября.
Собственно, реализуя «доктрину тотальной преемственности» путинская элита шла по стопам КПРФ, которая в начале 1990‐х трансформировала советский нарратив, сделав историю СССР своеобразной кульминацией «тысячелетней истории» русского народа. Правда, сама по себе версия, разработанная «народно-патриотической оппозицией», не подходила на роль официального нарратива, поскольку она была построена по модели мифа об утраченном «золотом веке» [см.: Schöpflin, 1997; Smith, 1999], т.е. воспроизводила смысловую схему, в которой [печальное] настоящее противопоставлялось [прекрасному] прошлому, чтобы мобилизовать сообщество на перемены ради [светлого] будущего. Такая схема была удобна для оппозиции, но не для властвующей элиты, которой было важно оправдать настоящее. Тем не менее пересказывание советского прошлого «патриотическим языком общего наследия» [Kalinin, 2011, p. 159] в принципе позволяло не только «забыть» о его «неудобных» страницах, но и переосмыслить символ Октября как – пусть не кульминационный, но все же «великий» – эпизод «тысячелетней истории». Это не слишком выбивалось бы из общей эклектической конструкции «тысячелетней истории».
Однако этого не произошло, Путин и его соратники предпочли продолжить демонтаж «инфраструктуры» коллективной памяти о революции, отменив в 2004 г. посвященный ей праздник. В начале 2000‐х годов федеральные и московские власти пытались экспериментировать с форматами празднования 7 ноября, именовавшегося теперь Днем согласия и примирения. В 2000 г. в этот день помимо традиционных демонстраций и митингов левых сил на Васильевском спуске прошла молодежная акция движения «Идущие вместе», посвященная президенту Владимиру Путину, а на Ордынке открыли памятник Анне Ахматовой [Закатнова, 2000]. В 2001 г. 7 ноября проходил торжественный парад на Красной площади, посвященный 60‐летию парада 1941 г.; а во второй половине дня в тот же день члены общероссийской молодежной общественной организации «Идущие вместе» проводили акцию по очистке города от мусора [Тучкова, 2001]. В 2003 г. праздник проходил незадолго до думских выборов, и был отмечен мероприятиями не только левых, но и правых сил. Однако эти эксперименты не имели продолжения, и единственным устойчивым ритуалом праздника оставались мероприятия левых.
В конце 2004 г. в результате внесения поправок в Трудовой кодекс 7 ноября перестало быть нерабочим праздничным днем. «Вместо него» появился новый государственный праздник – День народного единства 4 ноября, весьма условно приуроченный к дате освобождения Китай-города бойцами народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 г. Операцию по замене праздника в каком‐то смысле облегчило переименование, произведенное Ельциным: праздник был не просто отменен, а заменен на День народного единства 4 ноября. Инициатором замены выступил Межрелигиозный совет России, объединяющий так называемые традиционные конфессии. Как пояснил тогдашний глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Кирилла, «мы не выступали с инициативой отмены празднования 7 ноября. Мы выступили с инициативой сделать 4 ноября Днем согласия и примирения, потому что 7 ноября в силу исторических событий, произошедших в этот день, не может быть Днем примирения и согласия» [Митрополит Кирилл… 2004]. Формально речь шла не о переоценке Октябрьской революции, а о выборе более подходящего повода для праздника народного согласия / единства. Позже, 6 июля 2005 г., по предложению думского Комитета по труду и социальной политике были внесены изменения в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России», и 7 ноября стало памятной датой в формулировке «День Октябрьской революции 1917 года» (кроме того, этот день остается и днем воинской славы – «Днем проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год)») [ФЗ от 13 марта 1995 г. № 31-ФЗ]. Таким образом, в итоге «путинской» реформы праздничного календаря 7 ноября вновь стало Днем Октябрьской революции (правда, уже не «великой» и не «социалистической»). Ельцинская формулировка – «День согласия и примирения» – была упразднена.
Возникает вопрос: почему в середине 2000‐х годов, как и в начале 1990‐х, властвующая элита предпочла «отбросить» символ Октябрьской революции, вместо того чтобы работать над его трансформацией? Казалось бы, взятый на вооружение принцип «тотальной преемственности» открывает возможность для интеграции этого по общепринятым меркам «великого» события, несомненно значимого с точки зрения конструирования российской идентичности, в обновленный национальный нарратив. На мой взгляд, объяснений может быть несколько. Во‐первых, трансформация мифа об Октябре требовала основательного погружения в споры о советском прошлом. Однако всецело сосредоточенная на «нациестроительном» апологетическом подходе, путинская политика памяти не была ориентирована на критическую «проработку» прошлого. Советское наследие использовалось в той мере, в какой оно подкрепляло апологетический нарратив. Во‐вторых, если что‐то и объединяло российскую политическую элиту 1990‐х и 2000‐х годов, то это страх перед революцией [см.: Малинова, 2015, с. 62–68]. Не случайно, как заметил В. Иноземцев, решение о «замене» праздника было принято 29 декабря 2004 г. – через три дня после завершения украинской оранжевой революции [Иноземцев, 2012]. В‐третьих, возможно, сыграли свою роль и личные взгляды В.В. Путина, который никогда не выказывал особой приверженности Октябрьской революции [см.: Малинова, 2015, с. 78–79].
Так или иначе, решение о понижении символического статуса бывшего «мифа основания» Советской России позволило исключить тему 1917 г. из официальной политики памяти без малого на десять лет. Однако это не означает, что тема революции 1917 года перестала волновать общественность. Оставаясь центральным элементом разных нарративов, поддерживающих модели «проработки трудного прошлого» и «консолидации нации», она продолжала оставаться предметом острых споров.
Поиски смысловой формулы для «неудобного юбилея»Приближение 100-летнего юбилея возвращает тему революции в повестку официальной политики памяти. Дискуссии возобновились в связи с другим юбилеем – начала Первой мировой войны. 4 июля 2012 г. вопрос о ее коммеморации был поднят на встрече В.В. Путина с членами Совета Федерации. Горячо поддержав данную инициативу, Путин, по-видимому экспромтом, стал объяснять, почему эта война оказалась «забытой». По его версии, это произошло «не потому, что ее обозвали империалистической», а потому, что «тогдашнее руководство страны» предпочитало не вспоминать о собственном «национальном предательстве», определившем ее исход для России [Путин, 2012]. Как известно, в условиях Гражданской войны большевистское руководство подписало с де-факто проигравшей войну Германией сепаратный мир в Брест-Литовске. Некоторые историки усматривают в действиях большевиков, обеспечивших досрочный вывод России из войны, выполнение обязательств перед германским правительством, которое – это документально известно – оказывало им финансовую помощь. Однако Путин не стал развивать конспирологическую версию; он усмотрел «национальное предательство тогдашнего руководства страны» в действиях, которые привели к потере огромных территорий и принесли ущерб интересам страны. Правда, он тут же оговорился: большевистское руководство «искупило свою вину перед страной в ходе Второй мировой войны, Великой Отечественной» [Путин, 2012]. Очевидно, что при такой постановке вопроса Октябрьская революция вряд ли может рассматриваться как «великое событие», которым следует гордиться – скорее это момент трагического «срыва», «исправленный» последующим ходом истории.
Лидер коммунистов Г.А. Зюганов опроверг на партийном сайте заявление Путина о «национальном предательстве» большевиков, предложив свою версию событий, согласно которой в неудачах России в Первой мировой войне и падении империи виноваты «кризис царизма и вырождение династии Романовых». Большевики, по мнению Зюганова, не имеют отношения к распаду страны – напротив, «Гражданская война… быстро приобрела характер национально-освободительной», и победив, «они буквально в считаные годы заново собрали воедино подавляющую часть государства российского, обеспечив ему такое экономическое, социальное и культурное единство, которого наша страна никогда не знала прежде» [Зюганов, 2012].