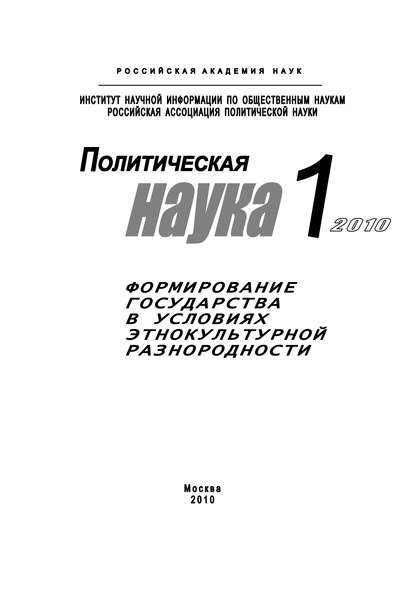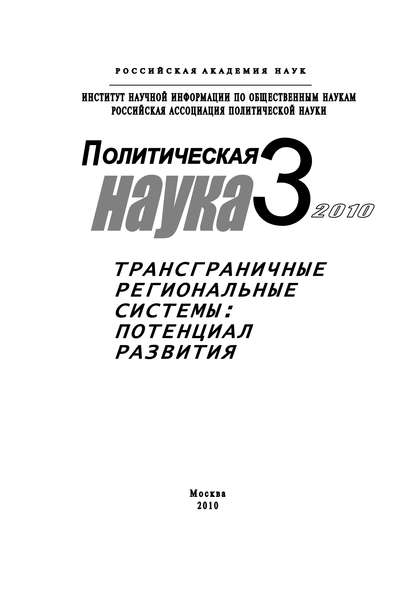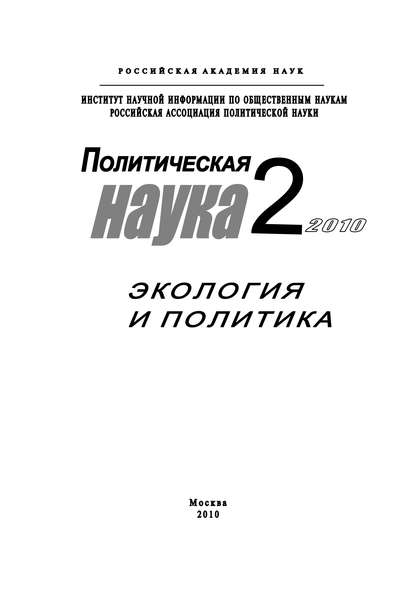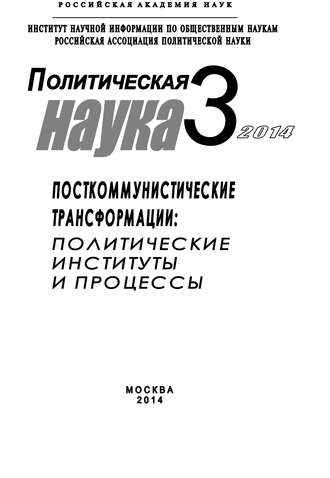
Полная версия
Политическая наука №3 / 2014. Посткоммунистические трансформации: Политические институты и процессы
Российский случай представляется наиболее проблематичным. Обладающая большими природными богатствами и располагающая в целом благоприятными структурными предпосылками, Россия пережила периоды угрозы распада государственности, сепаратизма Чечни, продолжительной войны на Кавказе и террористической угрозы, не устраненной и поныне. Хотя ротация элит была здесь значительной по масштабу и новая бизнес-элита внесла немалый вклад в формирование сегодняшнего политического класса, именно в России, более чем в любой другой стране постсоветского пространства, элементы старой военно-силовой элиты вошли в политический истеблишмент, и их консервативная ментальность остается значимым обстоятельством в российской политике.
По совокупности объективных и субъективных факторов можно заключить, что с точки зрения поведения политических акторов белорусский сценарий для России все же был более вероятным, чем украинский или молдавский, если бы не существовало еще одного субъективного обстоятельства. Речь о центральной роли российской политической элиты в разгроме коммунизма в самом сердце империи и последовавшего антагонистического раскола в элите и нации в целом. Плюралистичность российской политики в 90‐е годы не была тождественна демократии, но она помогла преодолеть антагонизм в отношениях с элитой «старого режима» и заложила основы рыночной экономики. Президентско-парламентская республика для такого режима представлялась оптимальным режимом: более сильный оппозиционный парламент заблокировал бы реформы, еще более сильное президентство сделало бы режим слишком похожим на белорусский.
Попятное движение следующего десятилетия может объясняться как объективными, так и субъективными факторами: восстановление дееспособности государства (в любом случае неизбежное после кризиса легитимности власти 1990‐х годов), радикальный рост доходов от нефти, постоянные «фантомные боли» потерянной империи и страхи конкуренции за власть и собственность в стране, которая прошла через крайне противоречивую приватизацию огромных экономических активов. Эти явления de facto означали, что к началу нынешнего века в России сложилась новая, более негативная конфигурация структурных и актор-ориентированных факторов. Еще более усилило антидемократизационные тенденции неприятие цветных революций: в реакции на них правящей элиты и преувеличенное представление о роли Запада в этих событиях на «заднем дворе» России, и боязнь возможного повторения таких событий на российской почве.
Не подлежит сомнению, что демократизация в России должна была бы носить более осторожный и эволюционный характер, чем в других европейских постсоветских государствах, и озабоченность российских политических элит сохранением стабильности и минимизацией рисков вполне понятна: и изначальная степень антагонизма (продемонстрированная, в частности, расстрелом мятежного парламента в октябре 1993 г.), и страх хаоса в ядерной сверхдержаве убедительно объясняют нежелание российских элит идти на риск. Однако при этом не подлежит сомнению, что степень плюралистичности российской политики за минувшее десятилетие существенно снизилась, входные барьеры на рынке политической конкуренции ощутимо выросли, а качество электоральных процедур подвергается все более суровой критике.
Набор структурных условий в России был слишком сложным, а потому уникальным, вряд ли способным дать почву для обобщений. Один урок из российского опыта все же можно извлечь: негативные предпосылки для демократизации могут возникать или усугубляться и по ходу трансформационных процессов, а набор негативных явлений не ограничивается неудачами в экономическом развитии, напротив, такую роль может сыграть и экономический рост, основанный на «нефтяном проклятии». Российские элиты были вынуждены играть по правилам плюрализма и искать компромиссы именно тогда, когда страна жила в условиях жестких расколов, а ее переходная экономика лежала в руинах. Когда же эти расколы были преодолены, а экономика стала демонстрировать уверенный рост, нужда в «плюрализме поневоле» отпала, и политика стала функцией от объективных условий.
Возможно, именно Россия демонстрирует, что взаимовлияние структурных и процедурных факторов носит «спиралевидный» характер. Более высокий уровень социально-экономического развития и быстрый рост в первом десятилетии века привели к тому, что экономический кризис (который Россия, кстати, пережила относительно мягко благодаря накопленным на экспортных доходах резервам) породил острое расхождение между ожиданиями граждан (в первую очередь – сформировавшегося среднего класса). Последовавшее падение доверия эффективности власти усугубилось шоками от ее фактической несменяемости (когда стало ясно, что страну вновь возглавит В. Путин) и нарушений на выборах, привело к массовым и повторяющимся уличным протестам.
Под влиянием этих протестов российский правящий класс пошел на ограниченные реформы политической системы, демонтирующие некоторые ограничители плюрализма, возведенные в минувшее десятилетие. Однако страх утраты монополии на власть и связанный с ней контроль над экономическими активами порождают и типичную для «царя горы» охранительную тенденцию: либерализация законодательства о партиях и возвращение прямых выборов губернаторов обставляются существенными ограничениями, ужесточается законодательная рамка для публичных акций и деятельности неправительственных организаций. Объективно ситуация требует от власти преодоления отставания политической системы от «переросшего» ее общества, однако государство надеется реализовать некий «необонапартистский» сценарий (Пшеворский), в котором оно будет способно управлять чуть расширившимся плюрализмом при помощи более изощренного арсенала ограничителей для оппозиции и гражданского общества.
ВыводыДает ли проведенный анализ какое-либо новое знание о факторах, способствующих или препятствующих демократизации или иным образом влияющих на исход преобразований? Ответ, скорее всего, будет положительным, но не детерминистским.
Если мы рассмотрим в качестве наиболее объективной предпосылки уровень социально-экономического развития, то обнаружим, что среди стран с уровнем душевого ВВП выше среднемирового (10,725 долл., согласно данным МВФ за 2010 г.) крайне мало недемократий. По большей части, это «ресурсно проклятые» авторитарные режимы Персидского залива и другие нефтедобывающие государства; выше этой планки находятся также гибридные режимы Венесуэлы, России (страны с «нефтегазовым проклятием»), Беларуси (по нашей логике, испытывающей «нефтяное проклятие» в легкой форме). Из этого наблюдения следуют несколько выводов.
1. Как бы мы ни определяли итоги трансформаций конца ХХ – начала XXI в., они сделали демократию доминирующей формой общественного устройства в зажиточных странах, хотя и не без серьезных оговорок, и выходящей за пределы традиционного домена иудеохристианской цивилизации. В нашей выборке пост-коммунистических стран все государства с уровнем благосостояния выше среднемирового и не испытывающие «нефтяного проклятия» превратились в демократии разного уровня совершенства (Беларусь может считаться некоторым исключением).
2. «Ресурсное проклятие» (в большинстве случаев синонимичное «проклятию нефтяному») становится важной переменной, объясняющей, почему зажиточные страны не становятся демократиями. Как свидетельствует индекс демократии журнала «Economist» за 2010 г., если ввести экспорт нефти как «фиктивную переменную» в корреляцию между уровнем развития демократии и душевым доходом, значение корреляционного показателя в этой регрессии практически удваивается (с одной трети до 60%). Воздействие «ресурсного проклятия» на политическое развитие анализировалось многократно [Huntington, 1991; Ross, 2001; Diamond, 2003; Treisman, 2010; Полтерович, Попов, Тонис, 2008]. Мы хотели бы добавить к этому анализу лишь один важный нюанс: в переходных обществах «ресурсное проклятие» зачастую предопределяет вектор политического курса. Оно не только наделяет правителей ресурсами для содержания репрессивного аппарата и перераспределения материальных благ, но, что особенно важно, дает им возможность уклоняться или бесконечно откладывать перемены в любом смысле этого слова: оно помогает правящей элите укорениться, строить узкие распределительные коалиции, уделять меньшее внимание эффективности управления, поддерживать жизнеспособность устаревших политических практик (архаичных, традиционных, авторитарных). Соответственно, элиты в этих странах мотивированы на концентрацию властных полномочий, максимизацию экономической и политической ренты, усугубляемой, как мы показали, еще большими страхами ее утраты, а не на раздел их и создание механизмов выработки компромиссов: доминированию власти в таких государствах труднее бросить вызов. Ни одна из посткоммунистических стран с высоким уровнем нефтедобычи не добилась успехов в демократизации.
3. В современном мире бедные государства имеют шанс не только на демократизацию, но и на жизнеспособность демократии. На посткоммунистическом пространстве мы находим лишь один (и то не бесспорный) пример того, как бедность оказала влияние на процесс преобразований, способных в принципе превратиться в демократизацию, – Киргизстан (и то в сочетании с другими факторами). Молдова и Монголия, Македония и Черногория добились в демократизации существенного прогресса. Однако демократизация в этих странах нуждается в более пристальном анализе с рассмотрением каждого фактора, объясняющего ее успехи и неудачи. Например, можно было бы сравнить наборы структурных предпосылок и актор-ориентированных факторов в этих «не вполне зажиточных» странах, с одной стороны, и в «гибридных» странах с сопоставимым уровнем душевого дохода (например, Грузии или Армении) – с другой.
4. Что касается прочих часто называемых структурных предпосылок, опыт изучения посткоммунистического пространства позволяет дополнить общепринятые в науке установки рядом существенных нюансов. Государственность, определяемая в первую очередь в понятиях территориальной целостности и национального единства, несомненно, остается важным фактором, но не должна восприниматься как абсолют. Даже вспышки этнического насилия, утрата части территории и / или населения, ощущение национальной катастрофы (временные либо постоянные) не закрывают дверь для демократизации, что продемонстрировано Хорватией, Молдовой и Сербией, не говоря уже о менее очевидных случаях. Если действия элиты сильно мотивированы потребностью «стать Европой», если горячая фаза конфликта позади, а противоречия между большинством и меньшинством (этническим или конфессиональным) взяты под контроль, то в ряде случаев (Молдова, Хорватия) общества становятся менее гетерогенными, что открывает путь к демократизации (порой, правда, дорогой ценой). Однако там, где «незавершенная государственность» налагается на другие негативные предпосылки и / или стремление элит к демократизации слабо либо совсем отсутствует, демократизация становится невозможной. Крайняя бедность (по евразийским стандартам) воспроизводит острые социальные конфликты, как в Киргизстане или Таджикистане; менталитет «осажденной крепости», как в Грузии или Армении. А преувеличенные опасения «слабости государства», как в России, легитимизируют авторитарные тренды и не позволяют выработать курс, ведущий к демократизации.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
1
Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 13-03-00310 а.
2
Записано одним из авторов из выступления К. Геберта на семинаре в Таллине в 1998 г.
3
Этот индекс избран нами по причине его относительной простоты и прозрачности, а также достаточно высокой степени точности и диверсифицированности страновых показателей (в сравнении, например, с рейтингами Freedom House).
4
В этой выборке нет одного важного типа современных недемократических политических режимов – тех, которые в силу тех или иных причин не вступали на путь транзита. Можно предположить, что это связано с разными обстоятельствами: они «слишком бедные» или «слишком богатые», либо там «слишком много порядка» и все под авторитарным контролем, «вовсе нет порядка», т.е. это «неудавшееся государство».
5
Согласно данным Всемирного банка: Чехия – 11,209 долл. (1990); Словения – 11,827 (1990); Эстония – 6,959 (1991); Венгрия – 8,721 (1989); Литва – 8,846 (1991); Словакия – 7,609 (1989); Польша – 5,474 (1990); Латвия – 7,169 (1991); Румыния – 5,317 (1989); Хорватия – 9,699 (1990); Болгария – 5,711 (1989); Украина – 5,505 (1991); Македония – 5,656 долл. (1990).
6
По данным ПРООН: Чехия – 0,897; Словения – 0,857; Эстония – 0,872; Венгрия – 0,893; Литва – 0,881; Словакия – 0,897; Польша – 0,874; Латвия – 0,868; Хорватия – 0,857; Болгария – 0,865 и Македония – 0,857 (высокие уровни РЧП на старте трансформаций); Румыния – 0,733 и Сербия – 0,797 (средние уровни).