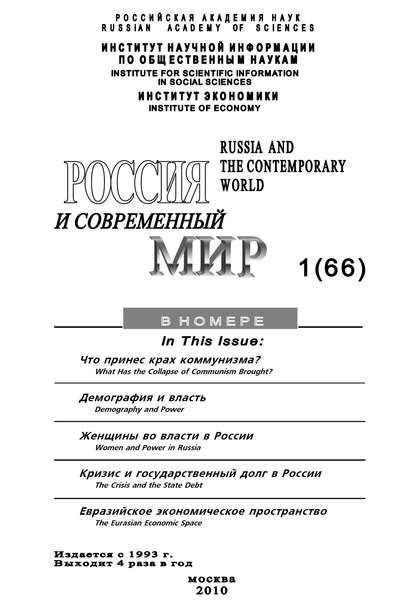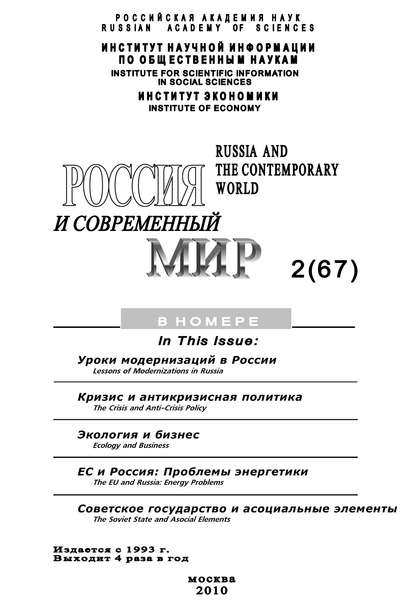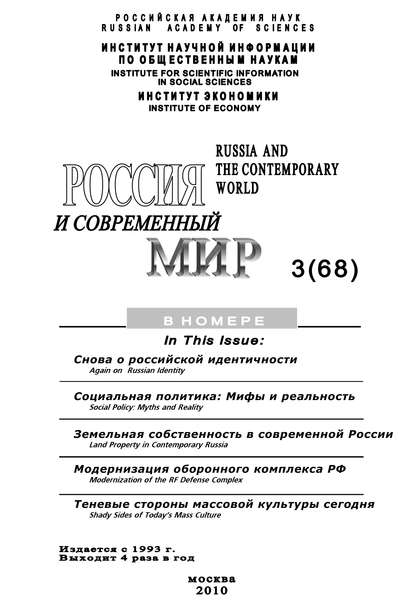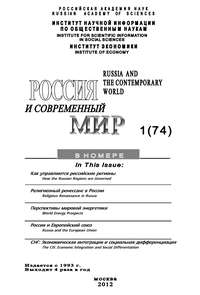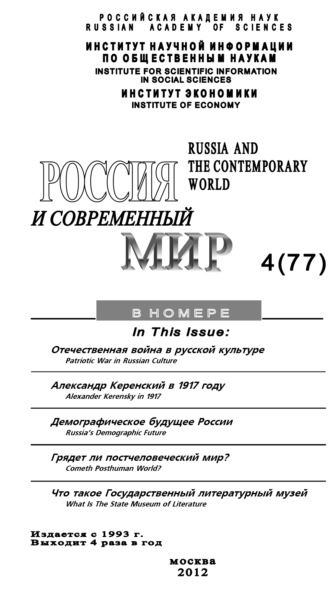
Полная версия
Россия и современный мир №4 / 2012
Социалистическое переустройство было неосуществимо без национальной солидарности / сплочения, а велось в режиме перманентной гражданской войны. Устойчивого ощущения общности в таких условиях возникнуть не могло. Советский народ 30-х – лишь пропагандистское режимное клише. Идеологией «строительства социализма в одной стране» были в одно и то же время национализм / национальное (это естественно: то, что получалось, строили все же во вполне – исторически, географически, культурно – определенном пространстве) и борьба с ним. Интегративная идея «социалистического национализма» в большевистском, ленинско-сталинском, варианте означала «коренную переделку» традиционного русского человека и его жизненного уклада. Это демонстрировала национальная практика социалистического строительства – прежде всего коллективизация и культурная революция. Только в корне «переделанная» (т.е. утратившая важнейшие признаки, качества национального) нация могла считаться «в основном социалистической». Конструируя и культивируя национализм, режим в то же время уничтожал его естественную основу. В качестве же традиционного сохранялось только то, что было полезно для режимной стабильности: культура несвободы и репрессивности, ориентации на подчинение / «подданичество», иерархичность, милитарность, страх другого и т.п.
Таким образом, от власти в 1930-е годы одновременно поступали как интеграционные, так и дезинтегрирующие импульсы, что вело к социальному расстройству (перманентному кризису – психологическому, этическому, культурному). Тем не менее следует признать, что именно в конце 1930-х обозначился идеологический проект, который был способен обеспечить советской власти общественную поддержку. Наибольший эффект давало самоотождествление с патриотизмом, отсылающим к прошлому, национальным традициям, и с прогрессом, т.е. революционным социальным проектом, образом социалистического и интернационального будущего (создание «светлого завтра» для всего человечества – это завораживающе высокая претензия)31. Но в 30-е проект был именно обозначен, последовательно же не реализовывался. Режим применял его фрагментарно, ситуативно, с циничным прагматизмом: энтузиазм строителей пятилеток направлялся и поддерживался обещанием социализма и его ожиданием; в войну делалась ставка на патриотизм.
«Развитой сталинизм» есть сложное соединение примитивных, противоречащих друг другу стратегий «переработки» исходной социальности. И национально-патриотическая идея служила той же цели – «переработать» в интересах режима32. Скрепляющим началом для всех этих конфликтующих между собой стратегий могло стать лишь принуждение (тотальное государственное насилие, угроза насилия, страх перед насилием). Только примитивнейшее управленческое средство способно заставить работать социальный механизм в крайне травматичных для него условиях. Однако военная реальность настоятельно требовала иных средств, иных стратегий. Первоочередной была нужда в согласии и определенности: режим и народ «договорились», признав защиту Отечества единственной ценностью, основой всеобщего сплочения и мобилизации. Это договор на уровне высоких, «предельных» даже ценностей, существо которого очень точно передал потом Б. Окуджава: «Мы за ценой не постоим». Он скреплен патриотизмом стоявших насмерть, но не сдавшихся. На такой высоте невозможно было держаться долго; военный патриотический проект был обречен поэтому на краткосрочность, подлежал пересмотру после войны.
Из этого «договора» и родился властенародный режим, который только и способен побеждать в Отечественных. Местом рождения стал Сталинград (хотя и Москва была важнейшей вехой на этом пути)33. Не было больше – в высоком, высшем даже смысле – отдельно власти, отдельно народа; они слились – и устремились к общей Великой Победе. (То же, замечу, случилось в 1812 г. после освобождения столицы.) Одновременно произошло взаимопроникновение режимного и народного. Режим растворился в народном, народ в советском (одно из внешних проявлений этого – массовое «хождение» фронтовиков в партию). Произошел «коренной перелом» – не только военный, но и ментальный, имевший важнейшие социальные последствия.
Война 1941–1945 гг. стала самым тяжелым потрясением в нашей современной истории, изменившим и народ, и власть. Трансформировались сами основы существования режима. Величие и трагедия Отечественной высветила его неправду, дав ему в то же время подлинную, живую легитимность. Причем легитимность традиционную, укорененную в культуре: сражавшейся вместе с народом и во главе его власти. Народ же обрел в Отечественной собственную идентичность – тоже через связь с историей, традицией. В войне сформировалась основа «властенародного» единства; ею были заложены основы «новой исторической общности людей».
Естественно возникал вопрос: что будет дальше? И здесь следует учитывать несколько обстоятельств. Советские люди предвоенного «образца», привыкшие к чрезвычайщине, репрессивности, к существованию на грани жизни и смерти, воспитанные войной и для войны, выдержали ее нечеловеческое напряжение. И надорвались – после Великой Отечественной война для нас возможна только как воспоминание. В рамках послевоенного порядка запустился процесс разложения раннесоветской мобилизационной системы.
В войне и войной закончился «развитой сталинизм» (1929–1941); послевоенная политика, выглядевшая как его апофеоз, в действительности – лишь арьергардные бои. Их смысл – задавить, скрыть внутреннее перерождение режима34. После смерти Сталина социальная «демобилизация» пошла полным ходом; ее сдерживала только «холодная война», милитарная гонка двух систем. Но вектор режимной трансформации вполне определился: от военного интереса – к гражданскому, от системного – к частному, от общего – к личному (мещанско-обывательскому обустройству), который в той системе мог реализоваться только как антиобщественный. Послевоенное советское общество перестало понимать себя как единый военный лагерь – вооруженную «эсэсэрию» в кольце врагов. Оно хотело не выживать, готовясь к войне и жертвуя собой во имя победы, а просто жить. Но логика социальной самореализации осталась прежней: каждый сам за себя – и против всех. В мирной жизни, потребительско-обывательской реальности действовали «понятия» гражданской войны.
В то же время в Отечественной накопился и ждал реализации эмансипационный потенциал. Это неизбежно: войны такого масштаба и накала не выигрывают люди-«винтики», серая масса под дулом заградотрядов. (Карательно-принудительный инструментарий, созданный личной инициативой Сталина, не способен сыграть решающей роли в такой войне. Нельзя принудить воевать, как невозможно сконструировать Отечественную «сверху» – это показал опыт Первой мировой.) Во «вторую Отечественную» народонаселение («популяция», по терминологии «Русской Системы»35) выросло в народ; из подлинно патриотического порыва родился гражданин. Народ-победитель / солдат-гражданин, ощутив себя субъектом истории, вершителем исторических судеб мира, естественно захотел свободы, сужения зоны властного контроля и насилия. В конечном счете двойной социальный запрос – на свободу и потребление – и уничтожил сталинский порядок.
В связи с войной возникла и проблема культурного, ментального характера: как о ней помнить. Ощущение себя победителями определяло послевоенную – живую, «участническую» – память советских людей. Но она вовсе не была победной, не центрировалась на все объясняющий и оправдывающий результат. Напротив, нестерпимая боль войны, а также тяжесть и беспросветность (не экономическая только) послевоенной ситуации заставляли обостренно, мучительно переживать проблему цены Победы. Кроме того, то была память, как бы «стремившаяся» к забвению (что, видимо, инстинктивно чувствовала и использовала в своих интересах сталинская власть). Пережившие войну ощущали ее как ужас, трагедию, главную травму своей жизни. Они хотели забыть – перекрыть войну миром.
И, наконец, это пример памяти победителя, которому не воздали по заслугам. Послевоенное двадцатилетие прошло под знаком недооцененности народной Победы – власть «забыла» о том, что имеет дело с народом-победителем, отказала в достойной его награде. Видимо, прежде всего потому, что боялась быть призванной этим победителем к ответу за те непомерные военные жертвы, что ему пришлось принести – в том числе по ее вине. Это подвергало эрозии военное единство народа и власти, естественное и неизбежное в эпохи наших Отечественных.
Литература1. Аймермахер К., Бомсдорф Ф., Бордюгов Г. Предисловие // Мифы и мифология в современной России. – М.: АИРО-ХХ, 2000. – С. 10–11.
2. Алексеев В.П. Народная война // Отечественная война и русское общество: В 7 т. – Т. 4. – М.: Издание Т-ва И.Д. Сытина, 1912. – С. 228–230.
3. Вишленкова Е.А. Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому». – М.: Новое литературное обозрение, 2011. – 384 с.
4. Геллер М.Я., Некрич А.М. Утопия у власти. – М.: МИК, 2000. – 856 с.
5. Голдинский И.Е. Воспоминания старожила о войнах 1807–1912 гг. // 1812 год в воспоминаниях современников. – М.: Наука, 1995. – С. 170–177.
6. Гудков Л. «Память» о войне и массовая идентичность россиян // Неприкосновенный запас. – М., 2005. – № 2/3 (40/41). – С. 46–57.
7. Гудков Л. Идеологема «врага» // Гудков Л. Негативная идентичность: Статьи 1997–2002 годов. – М.: НЛО–ВЦИОМ-А, 2004. – С. 552–649.
8. Гудков Л. Победа в войне: К социологии одного национального символа // Гудков Л. Негативная идентичность: Статьи 1997–2002 годов. – М.: НЛО–ВЦИОМ-А, 2004. – С. 20–58.
9. Данилевский И.Н. Русские земли глазами современников и потомков (XII–XIV вв.): Курс лекций. – М.: Аспект-пресс, 2001. – 389 с.
10. Драгунский Д. Нация и война // Дружба народов. – М., 1992. – № 10. – С. 56–78.
11. Дубин Б.В. «Кровавая» война и «великая» Победа: О конструировании и передаче комплективных представлений в России 1980–2000-х годов // Дубин Б. Россия нулевых: Политическая культура, историческая память, повседневная жизнь. – М.: РОССПЭН, 2011. – С. 47–64.
12. Дубин Б. Память, война, память о войне: Конструирование прошлого в социальной практике последних десятилетий // Дубин Б. Россия нулевых: Политическая культура, историческая память, повседневная жизнь. – М.: РОССПЭН, 2011. – С. 140–155.
13. Жидков В.С., Соколов К.Б. Десять веков российской ментальности: Картина мира и власть. – СПб.: Алетейя, 2001. – 640 с.
14. Зоркая Н. Визуальные образы войны // Неприкосновенный запас. – М., 2005. – № 2/3 (40/41). – С. 377–387.
15. Кип Дж., Литвин А. Эпоха Иосифа Сталина в России: Современная историография. – 2-е изд. – М.: РОССПЭН, 2009. – 328 с.
16. Ключевский В.О. Русская история: Полный курс лекций в трех книгах. – М.: Мысль, 1993. – Кн. 3. – 558, [1] с.
17. Клямкин И. Демилитаризация как историческая и культурная проблема // Куда ведет кризис культуры? Опыт междисциплинарных диалогов. – М.: Новое издательство, 2011. – С. 261–275.
18. Клямкин И.М. Постмилитаристское государство // Российское государство: Вчера, сегодня, завтра. – М., 2007. – С. 11–28.
19. Кукулин И. Регулирование боли. (Предварительные заметки о трансформации травматического опыта Великой Отечественной / Второй мировой войны в русской литературе 1940–1970-х годов) // Неприкосновенный запас. – М., 2005. – № 2/3 (40/41). – С. 324–336.
20. Левин М. Советский век. – М.: Европа, 2008. – 680 с.
21. Левинсон А. Война и земля как этические категории // Неприкосновенный запас. – М., 2005. – № 2/3 (40/41). – С. 104–107.
22. Левинсон А. Люди молодые за историю без травм // Неприкосновенный запас. – М., 2004. – № 36. – С. 61–64.
23. Ловушки демилитаризации: Обсуждение доклада И. Клямкина «Демилитаризация как историческая и культурная проблема» // Куда ведет кризис культуры? Опыт междисциплинарных диалогов. – М.: Новое издательство, 2011. – С. 275–306.
24. Малиновский Б. Миф в примитивной психологии. – М.: Рефл-бук, 1998. – 304 с.
25. Миллер А. Россия: Власть и история // Pro et Contra. – М., 2009. – № 3/4 (46), май–август. – С. 6–23.
26. Морен Э. О природе СССР: Тоталитарный комплекс и новая империя. – М.: РГГУ, Науч.-изд. центр «Наука для общества», 1995. – 220 с.
27. Память о войне в современных российских СМИ // Неприкосновенный запас. – М., 2005. – № 2/3 (40/41). – С. 353–368.
28. Розанов В. Последние листья (запись от 12 октября 1916 г.) // Розанов В. Собр. соч. / Под общ. ред. А.Н. Николюкина. – М.: Республика, 2000. – 380, [2] с.
29. Сталин И. О Великой Отечественной войне Советского Союза. – М.: ОГИЗ; Гос. изд-во полит. литры, 1942. – 51 с.
30. Сталин И. О Великой Отечественной войне Советского Союза. – 5-е изд. – М.: Гос-политиздат, 1953. – 207 с.
31. Тартаковский А.Г. 1812 год и русская мемуаристика: Опыт источниковедческого изучения. – М.: Наука, 1980. – 312 с.
32. Толстой А.Н. Нас не одолеешь! // Толстой А.Н. Собр. соч. – В 10 т. – М., 1961. – Т. 10. – С. 491–493.
33. Топорков А.Л. Миф: Традиция и психология восприятия // Мифы и мифология в современной России. – М.: ФИРО–ХХ, 2000. – С. 39–66.
34. Хёслер И. Что значит «проработка прошлого»? Об историографии Великой Отечественной войны в СССР и России // Неприкосновенный запас: Дебаты о политике и культуре. – № 2/3 (40/41). – М., 2005. – С. 88–95.
35. Чудакова М.О. «Военное» стихотворение Симонова «Жди меня» (июль 1941 г.) в литературном процессе советского времени // Новое литературное обозрение. – М., 2002. – № 58. – С. 223–259.
36. Шеррер Ю. Германия и Франция: Проработка прошлого // Pro et Contra. – М., 2009. – № 3/4 (46), май–август. – С. 89–108.
37. Шишкин В.А. Власть, политика, экономика: Послереволюционная Россия (1917–1928). – СПб.: Дмитрий Буланин, 1997. – 400 с.
38. Шлёгель К. Постигая Москву. – М.: РОССПЭН, 2010. – 311 с.
39. Эренбург И. Свет в блиндаже // Эренбург И. Собр. соч.: В 9 т. – М.: Худ. литра, 1966. – Т. 7. – С. 674–675.
40. Ярославский Е. Великая Отечественная война советского народа // Правда. – М., 1941. – 23 июня. – С. 2.
Уроки Александра Керенского и «керенщины» в 1917 г
С.В. ТютюкинТютюкин Станислав Васильевич – доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института российской истории РАН.
Февральская революция 1917 г. в России за несколько дней покончила с царизмом и в качестве одного из новых национальных лидеров выдвинула руководителя во многом близкой к социалистам-революционерам Трудовой группы IV Государственной думы Александра Федоровича Керенского (1881–1970)36
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
1
Статья представляет сокращенный вариант исследования, опубликованного в ежегоднике «Труды по россиеведению» (2011, № 3).
2
Ею занимались славянофилы и некоторые историки, но сделать ее мейнстримом науки и общественного сознания не удалось.
3
«Историческая политика» – многозначный термин, употребляемый в разных значениях. Некоторые исследователи видят в исторической политике «набор практик, с помощью которых отдельные политические силы, используя административные и финансовые ресурсы государства, стремятся утвердить определенные интерпретации исторических событий как доминирующие, отличающихся в посткоммунистических обществах особым своеобразием» [25, с. 10]. Существует другая точка зрения на историческую политику: ее предлагают не сводить к официозной трактовке истории, но трактовать в широком смысле – как процесс «формирования общественно значимых исторических образов и образов идентичности… которые реализуются в ритуалах и дискурсе, претерпевая изменения со сменой поколений или по мере эволюции социальной среды» [36, с. 90]. В этом значении «историческая политика» практически неразличима с «политикой памяти» – так называют практики общественного бытования истории. Говоря об исторической политике, я имею в виду не «политику памяти» вообще и не использование истории в политических целях, а более частный случай: государственную политику «формирования» общественного исторического сознания и коллективной памяти, государственную пропаганду официальной версии истории, влияние государства на политику памяти и исторические исследования с целью собственной легитимации и укрепления господства.
4
Одной из причин появления этого текста было удивление тем, какую власть над умами многих наших людей имеют слова «миф», «фальсификатор» – в особенности в отношении Отечественной войны.
5
Миф – «один из древнейших, опробованных временем типов социального кодирования, свойственный не только традиционному обществу, но и всем этапам развития человеческой цивилизации. Мифы “живут” и “вымирают”, но и заново возникают, и степень их значимости все время меняется» [4, с. 10–11]. Начало изучения мифа и мифического (мифологического) сознания было положено трудами Э. Дюркгейма, А. Юбера, М. Мосса; классический статус ему придали работы М. Элиаде, Г. Беккера, С. Брэндона и др. Заметный вклад в развитие темы внесли российские авторы – Е. Мелетинский, С. Аверинцев, В. Иванов, С. Токарев, В. Топоров и др.
6
Милитаризация, в интерпретации И.М. Клямкина, «это выстраивание не только военной, но и мирной повседневности по военному образцу, это насаждение определенного образа жизни» [23, с. 275]. Здесь важно учитывать следующий момент, на который указал при обсуждении концепции Клямкина А. Пелипенко: «Милитаристская модель общества присуща не только России. Первичный и наиболее глубокий пласт соответствующих ментально-культурных установок восходит к очень древним и универсальным историческим этапам. И эти установки впоследствии уже не исчезают, сохраняясь во всех культурах».
7
Этот термин встречается в некоторых современных исследованиях, посвященных Отечественной войне. Немецкий историк И. Хёслер, например, отмечает: «Наряду с мифом об основании Советского Союза вторым столпом легитимности стал миф о “священной войне”» [34, с. 90]. Российский исследователь И. Кукулин пишет: «Война стала легитимирующим “мифом основания” – она-то и должна была обосновывать советскую идентичность» [19, с. 333]. С конца 1980-х годов широко употребимым стало понятие «государственный миф о войне» – это основополагающий элемент советской исторической мифологии, подменявшей реальную историю [27].
8
Попутно заметим, что «слово… Родина (в значении “родная страна”) первым начнет употреблять Г.Р. Державин лишь в конце XVIII столетия» [9, с. 203].
9
Заметим, что категория «священная война», активно использовавшаяся в текстах о 1812 г., взята из лексикона западной культуры. В круге этих материалов тиражировались также метафоры «Россия – Священная империя славянской нации», «Освобождение Европы», русский император – «освободитель народов» [3, с. 216, 217].
10
Современники, кстати, видели связь двух вторжений – монгольского и французского: «Отечество стонет под игом новых татар», – писал патриотический журнал «Сын Отечества» [цит. по: 3, с. 169]. У одного мемуариста известие о появлении французских войск в пределах империи вызвало воспоминание о том, что «Россия была некогда подвластна татарам»; он уже «воображал себя пленником», и «эта участь устрашала» его [5, с. 172]. По аналогии с нападением татар наполеоновская агрессия воспринималась как нашествие – неуклонное, неумолимое, ведущее к установлению «ига»: «Быстрое занятие неприятелем городов внушало опасение, что этот поток ничто не остановит и что он скоро дойдет до нас и поглотит» [там же, с. 173].
11
Интересно, что последний всплеск текстов об Отечественной войне пришелся на начало ХХ в. К 100-летию 1812 г. было собрано и записано немало «передававшихся из поколения в поколение, бытовавших безымянно-устных повествований, близких к историческим преданиям фольклорного типа» [31, с. 63–64]. То есть именно этот пласт источников был в значительной степени мифологизирован. Ими транслировалось то представление о войне, которое утвердилось в культуре, став своего рода нормативным. Оно воспроизводилось и в научных исследованиях [см., напр.: 2 и др.]. «Народная», «Отечественная» – так вспоминали о войне 1812 г. накануне Первой мировой.
12
Управляющий III Отделением Императорской канцелярии и начальник штаба корпуса жандармов граф А.Х. Бенкендорф вспоминал: «Довольно долго русское общество не желало признавать, что Москву сожгли сами русские: еще в начале 1813 г. большинство было убеждено, что московский пожар – дело рук французов. Но с течением времени… полностью изменило свой взгляд.., и “французское вандальство превратилось в жертву, принесенную русским народом… для спасения отечества”» [цит. по: 13, с. 283].
13
Неслучайно, более того, закономерно, что «победа стала основой для официального утверждения легитимирующего мифа о правильности российской монархии и обеспеченного ею социального порядка» [3, с. 223].
14
В.О. Ключевский отмечал важную перемену, «совершившуюся в том поколении, которое сменило екатерининских вольнодумцев; веселая космополитическая сентиментальность отцов превратилась… в детях в патриотическую скорбь. Отцы были русскими, которым страстно хотелось стать французами; сыновья были по воспитанию французы, которым страстно хотелось стать русскими». Ключевский называет это «настроением… поколения, которое сделало 14 декабря» [16, с. 420].
15
Хотя попытки такого рода предпринимались уже во время войны. В «Сыне Отечества», например, для «обращения к простонародью» использовались возможности фольклорной речи и сатирических картинок. Военные истории «стилизовались под народные былины или сказания, сопровождались а-ля лубочными иллюстрациями» [3, с. 160, 161].
16
Эти «грезы» (т.е. тиражные творения социальных конструкторов-соцреалистов) суть самоописания, самопредставления системы. Между ними и реальностью был, конечно, гигантский зазор. Но в том, как система себя описывала, проявлялось ее существо. Она выживала, производя двойную реальность, транслируя идеальные образы себя (фиксировали, какими должны быть народ, власть, их ценности и быт). В «совершенно искусственном, воображаемом сюжетном пространстве» «действовали условия, невидимые, скрытые враги и герои, возникали смертельные угрозы всему целому и избавления от них. Но весь этот мир был принципиально непроверяем, неподконтролен частному опыту, поскольку… держался на непреодолимом разрыве между планом коллективных событий и повседневной жизнью» [7, с. 614].
17
Не случайно главным инструментом продвижения образа в массы являлся киноэкран. По мнению исследователей, кино тех лет, «предвоенный сталинский киноэкран сливался с действительностью, замещал ее… Сознательно высветленное и тщательно профильтрованное киноизображение своей исконной документальностью и убеждающей фактографичностью уверяло, что “жить стало лучше, жить стало веселее” (Сталин)». В рамки «экрана-праздника» 1930-х легко вписалось кино «оборонной тематики». Даже в первые месяцы войны «на киноэкране продолжалась военная игра, где деревенские старушки и дети разоблачали переодетых германских шпионов, в оккупированных городах Восточной Европы действовало мощное подпольное Сопротивление, а в любом фронтовом поединке советский боец легко побеждал неловкого врага» [14, с. 379, 380]. Исключение составлял, пожалуй, только «Невский» (с его «Вставайте, люди русские!»), но он «заработал» во всю силу уже во время настоящей войны.
18
«Советские граждане, – как точно подметили современные исследователи сталинизма, – выработали тонкое искусство укрывать свои частные сомнения или свою внутреннюю сущность за публичным фасадом конформизма. Еще больше людей просто не разбирались в своих позициях» [15, с. 81].
19
При этом для Сталина союз с Германией был явно предпочтительнее войны с нею. Причина – не только в близости природы режимов (антидемократичности, репрессивности, милитарности, популизме) и их лидеров (типа лидерства). Сталин видел сходство в задачах и потенциалах двух стран. Так, в убийстве Рема и других штурмовиков он усматривал окончание «партийного» периода в истории немецкого национал-социализма и начало «государственного» [15, с. 320]. Вероятно, тем же был для него 1937-й год. А после войны Сталин отмечал, что германский и советский народы «обладают наибольшими потенциями в Европе для свершения больших акций мирового значения» [цит. по: 4, с. 453].