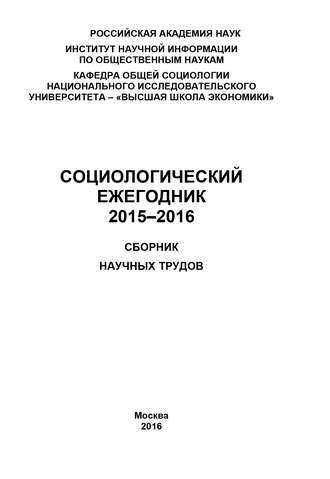
Полная версия
Социологический ежегодник 2015-2016
Во-вторых, близость к обычному словоупотреблению. Социальная сплоченность в отличие от других «эзотерических» конструктов социальных наук является фигуративным термином, несущим достаточно четкий образ [Chan, To, Chan, 2006, p. 280]. Это означает, что люди в целом разделяют смысл сплоченности. Обыденное использование слова «сплоченность» демонстрирует относительное согласие, которого так не хватает в исследовательской практике. Таким образом, дефиниция социальной сплоченности не должна слишком дистанцироваться от ее обыденного значения [Chan, To, Chan, 2006, p. 281].
Так, Дж. Чан с коллегами убеждены, что наилучший способ прийти к строгому определению социальной сплоченности – это начать с рассмотрения повседневного смысла слов «сплотиться» («cohere») или «сплоченность» («cohesion»). Рассматривая разные словарные определения, которые представляют сплоченность в смысле соединения индивидов, формирования целого, они отмечают, что в конечном счете определения сплоченности отражают состояния сознания индивидов, проявляющиеся в их поведении; в частности, люди в обществе говорят о единении друг с другом только тогда, когда выполняются следующие условия: 1) люди могут доверять друг другу, оказывать помощь, кооперироваться с членами своего сообщества; 2) люди разделяют общую идентичность или чувство принадлежности к сообществу; 3) субъективные переживания 1) и 2) проявляются в объективном поведении. Социальная сплоченность – это не только индивидуальное чувство или психологические составляющие (conditions); это еще и определенное поведение или акты принадлежности, доверия, кооперации и помощи. И субъективные, и объективные компоненты незаменимы. Первые указывают на акты участия индивидов, кооперацию и помогающее поведение, тогда как вторые отсылают к нормам и субъективному чувству доверия, чувству принадлежности и готовности помогать [там же, p. 289–291]. Едва ли можно представить, что в основании сплоченности некоторой группы индивидов будут отсутствовать взаимное доверие, готовность помогать или кооперироваться друг с другом. Общая идентичность или чувство принадлежности уже предполагают определенный уровень сплоченности и акцент на повторяющемся взаимодействии индивидов, которое является пространственно специфицированным [там же, p. 289].
Другими словами, важно учитывать, что сплоченность рассматривается в конкретном обществе или в политическом сообществе в определенный период времени [там же]. Дж. Чан с коллегами показывают, что явление социальной сплоченности относится к устойчивым, протяженным во времени феноменам. По их мнению, нельзя быть сплоченным спонтанно [там же, p. 290]. В итоге Дж. Чан с коллегами приходят к следующему определению сплоченности:
Социальная сплоченность – положение дел, касающееся вертикальных и горизонтальных интеракций среди членов общества, характеризуемых набором аттитюдов и норм, которые включают доверие, чувство принадлежности и готовность участвовать и помогать, а также их поведенческие манифестации [там же].
С нашей точки зрения, требования, выдвинутые Дж. Чаном и его коллегами, несут в себе потенциал для лучшего понимания сплоченности, однако сами авторы реализуют их недостаточно последовательно. Прежде всего непонятен сам способ, который авторы используют, чтобы приблизиться к обыденному определению сплоченности. По-видимому, они, как и большинство исследователей, не сомневаются в том, что разделяют с другими обыденное значение сплоченности. Они ошибочно полагают, что для прояснения обыденного смысла «сплоченности» достаточно обратиться к словарным статьям. Однако такая стратегия подменяет одно аналитически выделенное понятие сплоченности другим, что никак не приближает нас к обыденному пониманию сплоченности, действительным источником которого является языковая практика членов определенного сообщества. В рамках этой языковой практики люди не задаются вопросом о том, что значит «сплоченность», когда всякий раз используют это слово, поэтому вопрос о понимании сплоченности относится не к значению, а к употреблению данного слова. Дж. Чан с коллегами, увы, не учитывают эти моменты и в результате приходят к определению, столь же далекому от обыденного понимания сплоченности, как и те исследователи, которые они критикуют.
Мы считаем, что поиск ресурсов для прояснения понятия сплоченности необходимо направить непосредственно к обыденной языковой практике членов определенного сообщества. Таким образом мы сразу же признаем, что сплоченность является культурно специфицированным концептом, иными словами, может обозначать феномены, различающиеся в зависимости от социального контекста. В социологии одна из ранних и наиболее признанных попыток применить социологию к пониманию обыденного (естественного) языка представлена в работах Питера Уинча [Уинч, 1996].
Члены определенного сообщества разделяют определенные правила и пользуются общими понятиями, сложившимися в результате их совместной практики. Обыденный язык, таким образом, является ключом к пониманию культурного контекста («формы жизни»), к которому принадлежат члены данного лингвистического сообщества. Понимание категорий обыденного языка нацелено не на отыскание их сущности, а на описание того, как и в каких обстоятельствах члены наблюдаемого сообщества пользуются этими категориями. Тем самым для социологического взгляда П. Уинча первостепенный интерес представляет то, как социальная действительность осмысляется самими действующими, а не исследующими их учеными.
В терминах данного подхода понимать, что есть сплоченность, значит правильно использовать слово «сплоченность» в каждой конкретной ситуации. Тот факт, что ученый знает некоторые правила использования слова «сплоченность», не означает, что оно всегда будет уместно применено. В разных культурах идея сплоченности может пониматься по-разному, и, следовательно, совсем необязательно, что для самих действующих совершаемые ими действия и сопутствующие переживания будут означать то же самое, что и для наблюдателя. Действительно, люди в разных ситуациях и культурных контекстах могут вкладывать разный смысл в понятие сплоченности.
Отсюда вытекает особое требование к социальному ученому: если он хочет правильно интерпретировать происходящее в социальной действительности, он должен быть в состоянии применять к ней критерии, которые сама эта действительность и порождает. Иными словами, ученый должен учитывать особенности обыденного языка и социального контекста, в котором он используется. Но как убедиться, те ли критерии были выделены и правильно ли они применяются? В данном контексте принципиально важна вероятность ошибки в применении критерия: мы получим возможность убедиться в том, что наблюдаемое поведение относится к сплоченности, если допустим, что члены исследуемого нами сообщества могут поправить нас, указав на ошибку. Если мы используем термин в определенной ситуации и этого не происходит, значит, скорее всего, наша трактовка происходящего является правильной.
Метод Уинча – это не метод интерпретации, а метод описания. Последовательное этнографически ориентированное описание может дать серьезные результаты, продвинуть нас в понимании такого феномена, как сплоченность. Поиск универсального определения сплоченности не имеет смысла, поскольку за разными трактовками не стоит какой‐то общей сущности. Связь между различными определениями подобна «семейному сходству». Поиск обыденного значения социальной сплоченности не заменяет эмпирического исследования, но представляет собой вариант необходимой предварительной работы, которую часто минуют в исследовательской практике. Как мы увидели, внимание к употреблению понятия «сплоченность» в обыденной языковой практике позволяет избежать путаницы и споров вокруг данной дефиниции, предоставляя надежный критерий для ее понимания.
Список литературыГидденс Э. Устроение общества. Очерк теории структурации. – М.: Академический проект, 2005. – 528 с.
Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. – М.: Наука, 1991. – 576 с.
Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд. – М.: Мысль, 1994. – 399 с.
Тённис Ф. Общность и общество. Основные понятия чистой социологии. – М.: Владимир Даль, 2002. – 425 с.
Уинч П. Идея социальной науки и ее отношение к философии. – М.: Русское феноменологическое общество, 1996. – 107 с.
Ярская-Смирнова Е.Р., Ярская В.Н. Социальная сплоченность: Направления теоретической дискуссии и перспективы социальной политики // Журнал социологии и социальной антропологии. – М., 2014. – № 4. – С. 41–61.
An experimental study of cohesiveness and productivity / Schachter S., Ellerston N., McBride D., Gregory D. // Human relations. – N.Y., 1951. – Vol. 4, N 3. – P. 229–238.
Bales R.F. Interaction process analysis: A method for the study of small groups. – Cambridge (MA): Addison-Wesley, 1950. – XI, 203 p.
Bernard P. Social cohesion: A dialectical critique of a quasi-concept: Paper SRA-491. – Ottawa: Strategic research and analysis directorate: Department of Canadian heritage, 2000.
Bollen K.A., Hoyle R.H. Perceived cohesion: A conceptual and empirical examination // Social forces. – Chapel Hill (NC), 2001. – Vol. 69, N 2. – P. 479–504.
Bruhn J.G. The group effect: Social cohesion and health outcomes. – N.Y.: Springer, 2009. – XII, 171 p.
Budge S. Group сohesiveness revisited // Group. – N.Y., 1981 – Vol. 5, N 1. – P. 10–18.
Carron A.V., Brawley L.R. Cohesion: Conceptual and measurement issues // Small group research. – Newbury Park (CA), 2012. – Vol. 43, N 6. – P. 726–743.
Cattell R.B. Concepts and methods in the measurement of group syntality // Psychological rev. – Wash., 1948. – Vol. 55, N 1. – P. 48–63.
Chan J., To H.P., Chan E. Reconsidering social cohesion: Developing a definition and analytical framework for empirical research // Social indicators research. – Dordrecht, 2006. – Vol. 75, N. 2. – P. 273–302.
Dickes P., Valentova M. Construction, validation and application of the measurement of social cohesion in 47 European countries and regions // Social indicator research. – Dordrecht, 2013. – Vol. 113, N 3. – P. 827–846.
Drescher S., Burlingame G., Fuhriman A. Cohesion: An odyssey in empirical understanding // Small group research. – Newbury Park (CA), 2012. – Vol. 43, N 6. – P. 662–689.
Festinger L., Schaсhter S, Back K. Social pressures in informal groups: A study of human factor in housing. – Stanford (CA): Stanford univ. press, 1950. – X, 197 p.
Hulse K., Stone W. Social cohesion, social capital and social exclusion: A cross-cultural comparison // Policy studies. – L., 2007. – Vol. 28, N 2. – P. 109–128.
Jenson J. Defining and measuring social cohesion. – L.: Commonwealth secretariat, 2010. – IX, 34 p.
Lewin K. A dynamic theory of personality. – N.Y.; L.: McGraw-Hill, 1935. – IX, 286 p.
Lockwood D. Civic integration and social cohesion // Capitalism and social cohesion: Essays on inclusion and integration / Ed. by I. Gough, G. Olofsson. – N.Y.: St. Martin’s press, 1999. – P. 63–84.
Measuring team cohesion: Observations from the science / Salas E., Grossman R., Hughes A.M., Coultas C.W. // Human factors. – N.Y., 2015. – Vol. 57, N 3. – P. 365–374.
Member diversity and cohesion and performance in walking groups / Shapcott K.M., Carron A.V., Burke S.M., Bradshaw M.H, Estabrooks P.A. // Small group research. – Newbury Park (CA), 2006. – Vol. 37, N 6. – P. 701–720.
Moreno J.L. Who shall survive? – N.Y.: Nervous and mental disease publishing co., 1934. – XVI, 440 p.
Mudrack P.E. Defining group cohesiveness: A legacy of confusion // Small group behaviour. – L., 1989. – Vol. 20, N 1. – P. 37–49.
Putnam R.D. The prosperous community: Social capital and public life // American prospect. – Princeton (NJ), 1993. – Vol. 13, N 4. – P. 35–42.
Rajulton F., Ravanera Z.R., Beaujot R. Measuring social cohesion: An experiment using the Canadian national survey of giving, volunteering and participating // Social indicators research. – Dordrecht, 2007. – Vol. 80, N 3. – P. 461–492.
Shelly R.K., Bassin E. Cohesion, solidarity and interaction // Sociological focus. – Columbus (OH), 1989. – Vol. 22, N 2. – P. 143–150.
Shils E.A., Janowitz M. Cohesion and disintegration in the Wehrmacht in World War II // Public opinion quart. – Oxford, 1948. – Vol. 12, N 2. – P. 280–315.
Siebold G.L. The evolution of the measurement of cohesion // Military psychology. – Hillsdale (NJ), 1999. – Vol. 11, N 1. – P. 5–26.
Van Bergen A., Koekebakker J. Group cohesiveness in laboratory experiments // Acta psychologica. – Amsterdam, 1959. – Vol. 16. – P. 81–98.
Vergolini L. Social cohesion in Europe: How do the different dimensions of inequality affect social cohesion? // International j. of comparative sociology. – L., 2002. – Vol. 52, N 3. – P. 197–214.
Weber M. Economy and society. – Berkeley: Univ. of California press, 1978. – Vol. 1, 2. – XXXII, 1469 p.
Zander A. Motives and goals in groups. – N.Y.: Academic press, 1971. – XIV, 212 p.
Адаптивный потенциал социальной сплоченности: традиция, современность, неотрадиция 2
М.А. Козлова, А.И. КозловВведениеПроблема создания и поддержания социальной сплоченности не случайно уже на протяжении ряда лет держится в фокусе социологического интереса. Будучи концептуализированной как на микроуровне через первичные связи, так и на макроуровне через «гражданскую интеграцию» [Ярская-Смирнова, Ярская, 2014], социальная сплоченность проблематизируется в условиях усиления неравенства, индивидуализации, разрушения сообществ, миграций, роста этнического и культурного разнообразия. Потому в число наиболее актуальных тем эмпирических социологических исследований уже не первый год входят исследования связей в социально уязвимых слоях населения, развивающихся как следствие эксклюзии (например, бедных, бывших заключенных, различного рода меньшинств), сплоченности в иммигрантских, этнических, религиозных сообществах и др. [Социально-культурные практики.., 2015]. При этом указывается, что направленность сплоченности может быть и негативной, идущей вразрез с общими ценностями культуры [Гофман, 2015; Ионин, 2014; Симонова, 2014]. В качестве основных источников разрушения сплоченности сообществ признаются: разнообразные страхи перед будущим («культура страха») вследствие осознания рисков, недоверие по отношению к социальным институтам, гнев, направленный на других, индивидуальный и коллективный как следствие социального неравенства, глубокие социальные изменения и трансформации, интенсивное миграционное движение населения [Bruhn, 2009]. Так, современная – гетерогенная, полиценностная – социальная реальность наполняется дифференцированными сплоченностями, вырастающими вокруг локальных идентичностей, что заставляет социологов говорить о кризисе социальности. Выход из этого кризиса предполагает выстраивание принципиально новых форм сплоченности – на новых основаниях, вероятно, с новыми функциями.
В связи с этим представляется важным для измерения социальной сплоченности ввести параметр ориентации сообщества на универсалистские или партикуляристские нормы. Размышления зарубежных и отечественных социологов позволяют утверждать, что конструктивный характер групповая сплоченность приобретает только при соответствии ценностно и морально обусловленных групповых норм универсальным, абстрактным, надгрупповым правилам, разделяемым всеми социальными субъектами [Гофман, 2003, 2015]. Этот универсалистский характер содержания и формы групповой жизни позволяет группе избежать типичных противоречий или эффективнее разрешить их. В частности, группа, ориентированная только на рост собственного благополучия (причем даже не в ущерб благополучию других), рискует оказаться в социальной изоляции. В ответ на это ослабление внешних связей начинают трансформироваться механизмы формирования групповой идентичности: возрастает конформность индивидов по отношению к группе, растет степень ингрупповой лояльности, формируется представление об опасности внешней среды (воспринимаемая угроза) и, как следствие, – аутгрупповая враждебность. В результате моральные механизмы сплочения перерождаются. Напротив, ориентация на универсалистские ценности и следование надгрупповым нормам (и, возможно, согласование групповых норм с ними) становятся относительно надежной защитой, укореняя группу в поле более широкого сообщества.
Несмотря на то что ориентация на «абстрактные правила» – вероятно, единственный возможный путь ненасильственного сплочения в условиях современных обществ, именно сегодня актуализируются и набирают силу типы и формы интеграции, соответствующие партикуляристским – более архаическим формам социального устройства [Maffesoli, 1988]: гендерная, расовая, религиозная и этническая солидарности [Tiryakian, 2009]. В исследованиях зарубежных и отечественных социологов отчетливо формулируется проблема сосуществования, взаимодействия и противоборства «современных» и «традиционных» форм сплоченности [Социально-культурные практики.., 2015]. Возрождение традиционных форм сплочения выступает в качестве выраженной тенденции в мультикультурных постиндустриальных обществах [Maffesoli, 1988; Tiryakian, 2009] и выполняет роль своего рода защитной реакции на многообразие. В российских условиях обращение к «примордиальным» формам сплочения – «общности крови и почвы» – может рассматриваться также в качестве реакции пореформенного социума на нестабильность в экономической, политической, идеологической сферах, как инструмент адаптации.
Адаптация представляет собой системное явление, в рамках которого взаимосвязаны медико-биологические, психологические, социально-экономические и культурные параметры. Хотя выбор критериев для оценки столь сложного явления представляется непростой задачей, в западной науке и социальной практике в их числе рассматривается качество жизни населения, сменившее господствующую ранее идею «общества благосостояния (изобилия)». На сегодняшний день концепция качества жизни является наиболее разработанной теоретической базой для оценки условий жизни в обществе. Причем в течение последних двух десятилетий особенно активно разрабатываются концепции, ставящие во главу угла не индивидуальные, а групповые параметры оценки, такие, например, как степень равенства, безопасности или свободы, а также качество и структура социальных отношений в обществе. Особенно большой интерес на различных уровнях принятия политических решений вызывает именно категория «социальной сплоченности» [Friedkin, 2004; McCracken, 1998]. В числе часто упоминаемых при описании социальной сплоченности параметров можно назвать силу социальных связей, разделяемые ценности и системы мировоззрения, чувство общей идентичности и принадлежности к одной общности, доверие [Jenson, 1998; Woolley, 1998]. Понятия социальной сплоченности и качества жизни, безусловно, тесно взаимосвязаны. При этом социальная сплоченность включает в себя аспекты, затрагивающие индивидуальную жизнь, и в этом смысле представляет собой компонент индивидуального качества жизни. В то же время перспективы социальной изоляции (отвержения) приводят к ухудшению качества жизни индивидов.
Заметим, что влияние социальной сплоченности на параметры качества жизни, учитывающие как структурные (наличие и широта социальных связей), так и функциональные (качественные характеристики поддерживающего социального поведения) измерения, достаточно активно исследовались в рамках разных научных дисциплин. В частности, физиологи и медицинские антропологи изучали влияние этих параметров на здоровье населения в разных культурных и социальных средах [Cohen, Wills, 1985; Morsy, 1978; Social support and arterial blood pressure.., 1986; Graves, Graves, 1980; Hanna, James, Martz, 1986]. Исследования социальной поддержки и здоровья показывают, что представления о социальной поддержке и связь поддержки с уровнем заболеваемости во многом определяются социальными и культурными условиями, поскольку демонстрируют влияние культурного контекста как на понимание самой сущности социальной поддержки, так и на ее защитную функцию.
Эмпирические исследования демонстрируют также влияние социальной сплоченности на экономическое и другие измерения благополучия [Лебедева, Татарко, 2007] и, таким образом, постулируют в качестве важнейших для развития общества социальные и культурные факторы, отражающие специфику взаимоотношений людей. В этом смысле социальная сплоченность становится фактором, не только способствующим адаптации индивидов и групп в ходе социокультурных изменений, но и важнейшей движущей силой развития общества в новых условиях.
В настоящей статье речь идет о параметрах, позволяющих предсказать перспективы развития социальной сплоченности на основе анализа представлений индивидов о собственной групповой идентичности и установок внутри- и межгрупповой коммуникации. В конечном счете мы ориентированы на поиск ответа на вопрос: какие формы сплоченности обладают наиболее выраженным адаптивным потенциалом и обеспечивают наиболее стабильное и долговременное повышение уровня и качества жизни. В качестве групп в нашем случае выступают крупные социокультурные общности. В исследованиях, результаты которых обобщаются далее, принимали участие представители этнических общностей, находящихся на разных этапах перехода от «традиционного» к «современному» способу социального устройства, – представители коренного населения Севера России.
Эгалитаризм и стратификация в контексте «традиционного» и «модернизированного» обществаНачавшееся в 1990-х годах интенсивное экономическое и социальное расслоение населения Российской Федерации в первом десятилетии нового века стало одним из предметов серьезного социологического анализа [Социальная стратификация российского общества, 2003; Максимова, 2005]. На Севере эти процессы имеют свою специфику: здесь принадлежность к тому или иному социально-экономическому слою зачастую связана с этничностью. Высокие уровни доходов и пребывание на руководящих постах в северных регионах – привилегия, прежде всего, пришлого, а не коренного (аборигенного) населения, что само по себе чревато конфликтами. Но есть и еще один аспект: стратификация и по экономическому, и по социальному признаку набирает темпы и внутри обществ коренных северян [Харамзин, Хайруллина, 2002]. «Верхние» страты занимает местная национальная элита, более или менее успешно встраивающаяся в политические и административные структуры и получающая доступ к финансовым потокам. «Нижние» слои объединяют подавляющую часть коренного населения, колеблющегося между бедностью и нищетой и не способного в достаточной мере адаптироваться к современным условиям. Но и эти страты оказываются весьма неоднородными и в социальном, и в экономическом плане.
Расслоение аборигенных общин – во многом следствие общих модернизационных изменений. Дело в том, что традиционный уклад жизни коренных северян был во многом основан на социальной и возрастной эгалитарности – относительном равенстве представителей различных групп общества, что, как свидетельствуют этнологические данные, типично для кочевых обществ, которые не имеют резко выраженных иерархических социальных институтов и ролей. Иерархический социальный строй, который проявляется, например, в царствах, древних государствах или тоталитарных режимах, сформировался относительно недавно [Fry, 2006]. Напротив, общества кочевых охотников и собирателей характеризуются как имеющие эгалитарные ценности, высокую степень личной автономии и отсутствие авторитарных лидеров [Boehm, 1999; Fry, 2006]. У них «либо вообще нет лидеров, либо влияние лидеров очень искусно сдерживается, чтобы предотвратить использование влияния на приобретение богатства или престижа» [Woodburn, 1982, p. 444]. Э. Ликок также подчеркивал: «Трудность понимания структуры эгалитарной группы заключается в том, что лидерство здесь находится не просто в слабом или “зародышевом” состоянии, как это обычно представляется, оно не имеет значения вообще» [Leacock, 1978. p. 249]. Кочевые сообщества демонстрируют во всех случаях элементы кооперативной социальности – равноправие, самоуправление, участие, заботу; в то время как проявления ингрупповой лояльности и почитания авторитета – межгрупповая враждебность, четкие социальные различия, наличие авторитетных лидеров и иерархических институтов – зафиксированы не были [Lee, Daly, 1999].
Социальная эгалитарность традиционных северных обществ была обусловлена невозможностью накопления (точнее – удержания) одной семьей (родом) значительных материальных ресурсов, отчасти просто в силу условий среды обитания. Свидетельств этого зафиксировано множество [Крупник, 1989]. В несколько упрощенном виде можно сказать, что оленеводы постоянно переходили от «богатства» к «бедности»: владеющие крупными стадами периодически «разорялись» в результате падежа животных от эпизоотий, бескормицы, тяжелых погодных условий, а малоимущие оленеводы в результате мало предсказуемого стечения обстоятельств могли увеличивать поголовье своих стад. Морской зверобойный промысел, обеспечивавший в отдельные годы возможность накопления значительного прибавочного продукта, также не был гарантией регулярного поступления ресурсов из-за изменений численности и путей миграции морских млекопитающих, неблагоприятной ледовой обстановки и т.п. [Крупник, 1989, 2000]. Конечно, социальный уклад аборигенных групп предполагал определенные, часто весьма сложные иерархические взаимоотношения между их членами, однако эта иерархия оставалась значительно менее «жесткой», чем в современных им обществах России – от Великого княжества Московского до СССР [Слёзкин, 2008].









