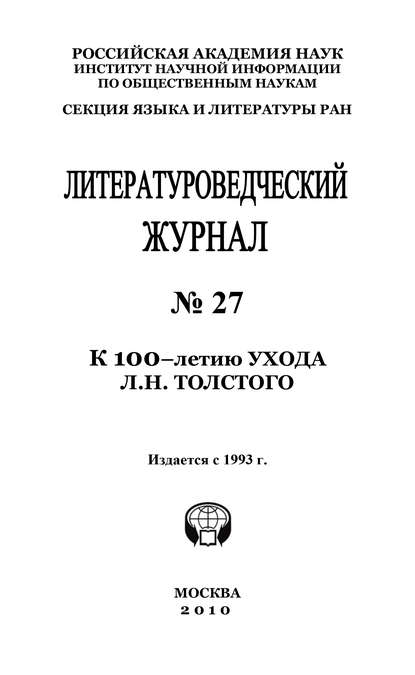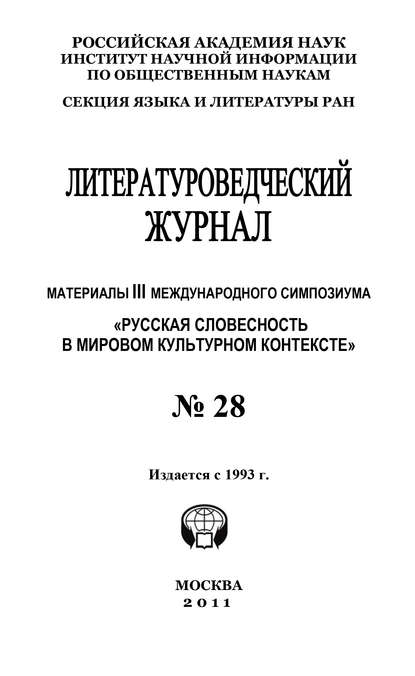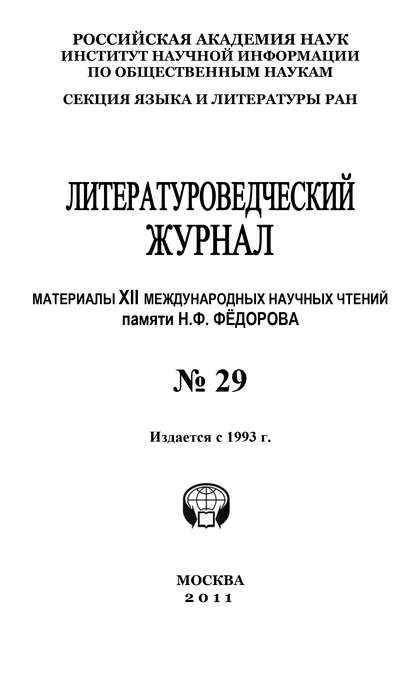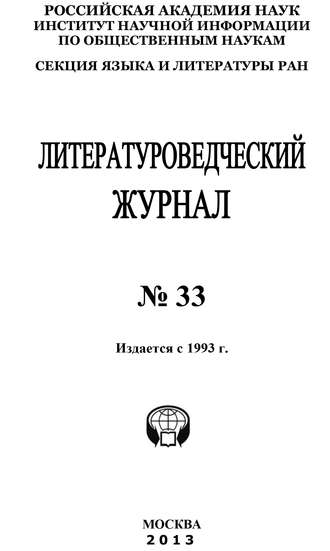
Полная версия
Литературоведческий журнал № 33

Литературоведческий журнал № 33 / 2013
Из истории европейской поэтики XIX века
Историзм: (К истории понятия)
В.Л. МахлинАннотацияВ статье предпринята попытка реконструкции понятия «историзм» в истории научно-гуманитарной и философско-эстетической мысли Нового времени. На материале историографии, истории литературы, филологии и философии показано, что реальность понятия «историзм» и «старше», и «современнее» того, что под ним подразумевалось в различных традициях последних двух столетий. В этом смысле история понятия «историзм» не сводится к последствиям объективистского понимания истории, характерного для XIX в., ни к критике историзма в конце Нового времени, от Ницше до «постмодерна».
Ключевые слова: историзация, историчность, понимание, исследование, романизация.
Mahlin V.L. Historicism (to the history of the concept)
Summary. The essay is an attempt to reconstruct the notion and concept of ‘historicism’ against the background of the humanistic and philosophical thought of the new times or the modernity. Using different sources from historiography, philology and philosophy, the author tries to show that the concept of historicism, as the reality of its notions, is «older» and even more «modern» than some intellectual traditions of the last two centuries have seemed to imply. Hence, the history of the concept can’t be reduced neither to the consequences of the objectivistic model of history typical for the 19th century, nor to the criticisms of historicism at the end of the new times, from Nietzsche to the so-called postmodernity.
Историзм – фундаментальная установка в восприятии и осмыслении мира, человека и общества, сложившаяся в Новое время к 1800 г. в полемике с рационализмом Просвещения и распространившаяся на протяжении XIX в. на всю европейскую умонастроенность и «образованность», а в гуманитарных науках ставшая научно-методологическим принципом исследования, который сохраняет свое значение (в модифицированном или некритическом виде) вплоть до сегодняшнего дня.
Поскольку слово «историзм» «возникло на сто лет позже того, что мы под ним подразумеваем»1, то термин историзм следует отличать от реальности этого понятия, которая «старше» термина и не совпадает с его традиционным научным значением. Суждение выдающегося немецкого историка литературы и филолога-романиста ХХ в. Э. Ауэрбаха: «Кто понимает историзм как эклектику, тот его не понимает»2, справедливо и в другом еще отношении: кто замыкает понятие историзм в границах традиционной методологии (в том числе литературоведческой), тот догматизирует и компрометирует традицию историзма, делая научный термин неубедительным и непродуктивным для современности. Именно потому, что «принцип историзма», обязательный для советского литературоведения и гуманитарии, не был своевременно поставлен под вопрос (как это произошло в западноевропейской философии и отчасти в гуманитарных науках в первой трети ХХ в. и позднее), понятие историзма в значительной степени утратило в русской науке свою «научность» вместе с крахом гегельянско-марксистской модели советской «эстетики истории»; после 1991 г. историзм либо вообще был по-советски же сброшен с пресловутого «корабля современности» (в особо «продвинутых» энциклопедиях и словарях статья об историзме теперь отсутствует), либо выродился в так называемый «исторический позитивизм» (как это по-особому уже имело место на рубеже XIX–XX вв.). Вызовы современности XXI в. требуют реконструкции понятия историзма с опорой на его историю и даже предысторию.
Историческим источником историзма был и остается всемирно-исторический переворот, адекватно передаваемый словом «историзация», – процесс, отчетливо обозначившийся в Европе уже после 1750 г., но по-настоящему осознанный значительно позднее. Историзм возник из продуктивного конфликта трех основных философско-эстетических и литературно-критических тенденций последней трети XVIII в. – классицизма, романтизма и идеализма; из этого комплекса взаимодействий и противодействий в XIX в. сложилось понятие историзма в более узком (терминологическом и методологическом) значении. С другой стороны, по своему влиянию историзм принадлежит еще и нашей современности после так называемой «постсовременности» (т.е. после конца Нового времени в прошлом столетии3), поскольку по-новому актуален, по словам выдающегося германиста А.В. Михайлова, «процесс историзации всего знания», «историзация знания (и мира)»4, – глобальное событие, внутри которого по-прежнему пребывают культура и образование, научные традиции и язык. В XIX в., в котором сегодня еще отчетливее, чем прежде, видится «переход к современности» и «начало современного мира»5, этот связанный с историзацией переворот, или перелом, уже настолько глубок и всеобъемлющ, что в самом «воображении поэта» (Einbildungskraft des Dichters) начинается «историзация области внеисторического»6, а в науке всë, от «истории Христа» (Д. Штраус, Э. Ренан, Ф. Овербек и др.) до «истории Naturgefühl»7, становится предметом историко-филологического исследования. Историзм, таким образом, – это философская и научно-методологическая рефлексия и образ мысли, обусловленные «инонаучным» историческим опытом и чувством времени – историзацией всех смыслов в культуре и образовании Нового времени.
В сфере литературоведения и гуманитарно-филологического мышления процесс «историзации» соотносим с процессом «романизации» литературы, как он понят в философии романа М.М. Бахтина: роман Нового времени наиболее последовательно реализует и символизирует «отказ от эпической бесспорности» в восприятии и изображении человека и мира, «прозаизацию» художественного и научного познания прошлого и современности; Историзм сделал XIX в. эпохой новой классики, поскольку дело шло о «радикальном повороте в судьбах человеческого слова: о существенном освобождении культурно-смысловых и экспрессивных интенций от власти одного и единого языка, а следовательно, об утрате ощущения языка как мифа, как абсолютной формы мышления»8. Историзм, в этом смысле, как в художественном, так и в научном познании означает отказ от представления и изображения исторических событий как некоторой мифологизированной «картины мира» (Weltbild), безотносительной к историческому месту изображающего и воспринимающего эту картину или образ9.
Историзм не совпадает с хронологическими границами столетия, зрелым детищем которого он по праву считается, подобно тому как и сам XIX в., так сказать, не равен себе: его духовная история, как заметил М. Хайдеггер, «простирается от последней трети XVIII века до первой трети века ХХ»10. Слово «историзм» встречается уже у Новалиса11 (т.е. на рубеже XVIII–XIX вв.), однако подразумеваемый под этим словом перелом в восприятии и переживании времени фактически произошел значительно раньше. Начиная со второй половины XVIII в. «история» все больше осознается не столько как совокупность сведений о прошлом (нем. Historie), но как некий самостоятельный, надындивидуальный субъект, творящий судьбу всего человечества (нем. Geschichte). Если до наступления так называемого «переломного», или «перевалочного», времени (Sattelzeit, по терминологии немецкого теоретика историзма в ХХ в. Р. Козеллека)12 историография представляла собой по большей части собрание «историй», имевших характер «примеров» для назидания и подражания (ср. древний девиз: Historia magistra vitae – «история – наставница жизни»), то на исходе «века Просвещения» принцип подражания (античным) образцам и ориентация на классическое наследие теряют свою непреложность; история становится «коллективным субъектом Истории в единственном числе (Kollektivsingular Geschichte)»13. Отныне не прошлое, но становящаяся современность приобретает решающее значение, а традиционное представление об истории как о «наставнице жизни» Гегель подвергнет уничтожающей критике в 1820-е годы14. При этом, однако, действует и «обратная связь»: в опыте современности по-новому открывается прошлое, в котором обнаруживаются не только предпосылки и причины современности, но также не осознававшаяся прежде «действенность» прошлого в настоящем, а равно и потенциал новых возможностей понимания прошлого – возможностей, возникающих из опыта современности. Именно на почве историзма понятие «классического» обрело новое измерение и новое значение на рубеже XVIII–XIX вв. – трансформация, которая повторится в первые десятилетия ХХ в., но уже в отталкивании от негативных последствий историзма предшествовавшего столетия15.
Начиная в особенности с И.Г. Гердера (1744–1803), историзм противопоставляет абстрактному «Разуму» и нормативности Просвещения, во-первых, принцип «органической» индивидуальности (своеобразия и многообразия всего сущего), во-вторых, – принцип развития (в обществе и в природе); Гегель позднее дополнит эти два принципа третьим – идеей разумной закономерности (и, соответственно, рациональной постижимости) хода всемирной истории (теодицеей истории). Научная продуктивность историзма, а равно и его научная же уязвимость, с самого начала были обусловлены «инонаучными» импульсами и предпосылками, которые историзм XIX в. одновременно и критиковал, и продолжал, – парадокс, который в литературном контексте зафиксировал О. Уайльд в предисловии к «Портрету Дориана Грея» (1890): «Неприязнь девятнадцатого века к реализму – это ярость Калибана, увидевшего в зеркале свое собственное лицо»16. Историзм, таким образом, соединяет в своем понятии различные конфликтующие между собою импульсы и ценности, которые сам ход истории со временем поставил под вопрос, но уже не мог отменить.
Историзм начинался не как научная методология позитивистского образца (каким он сделается во второй половине XIX в.), но как философия истории и как «теология эпохи Гёте»17: в стихии истории ощущает и утверждает себя всякая «живая философия» (Ф. Якоби), историография (К. ф. Савиньи и немецкая «историческая школа», французская историография периода Реставрации), литература (романы В. Скотта и др.), литературная критика (братья Шлегели, Ж. де Сталь и др.) – тенденция, которую Ф. Шлегель в «Идеях» (1800) сформулировал как программу познания и образования (Bildung): «Не существует иного самопознания, кроме исторического. Никто не знает, что он есть, если не знает, чем являются его товарищи, и прежде всего высший его сотоварищ, мастер всех мастеров – гений времени»18. Гегель через два десятилетия только придаст фрагментарным романтическим прозрениям общезначимый теоретический вид «научной» философии всемирной истории. Но уже в 70–80-е годы XVIII в. реальность раскрылась как историческое единство многообразия – будь то личность или нация, эпоха или культура. «Каждый народ, – писал Гердер, – имеет свой круг приличия, выраженный в его нравственных понятиях и чувствах, из которого его не должна вырывать никакая заимствованная у других народов вольность поведения»19. Гердер с его острым чувством различия эпох («Разве можно сочинить и петь в наши дни “Илиаду”?»20) выдвинул, среди прочего, идею, в соответствии с которой конкретная реальность исторического опыта всегда «больше» любых обобщений о ней: «Меня все время преследует страх, когда я слышу, как целую нацию или эпоху характеризуют несколькими словами – ведь сколь угодное количество различий вмещают слова “нация” или “средневековье”, “древнее” или “новое время”»21. Абстрактному понятию «человечество» (франц. humanité) Гердер и немецкое Просвещение противопоставили понятие «человечность» (нем. Humanität), имевшее, с одной стороны, персональные и этико-религиозные коннотации, а с другой – более тесно, чем рационализм французских энциклопедистов22, связанное с традицией европейской гуманизма (гуманитарного образования). Гердер считается основоположником сравнительного литературоведения23, и у него же, по-видимому, впервые появляется понятие «вчувствование» (Einfühlung; соответствующие русские термины – «вживание» или «проникновение»; англ. empathy), ставшее в XIX – начале ХХ в. (благодаря гегельянцу Ф.Т. Фишеру, его сыну Р. Фишеру и др.) одним из самых разработанных и влиятельных направлений в философской эстетике, психологии и теории познания24. В этапном для истории историзма сочинении Гердера «Идеи к философии истории человечества» (1784–1791) уже сформулирован «инонаучный» вопрос, который в XIX в. получит позитивный ответ в виде научной методологии историзма, но также станет источником «бунта» против гипертрофированного и упрощенного «прогрессизма» и «историцизма» (в России XIX в. – от Белинского и славянофилов до Достоевского и Толстого): «Неужели тысячи людей рождаются ради одного, все прошлые поколения – ради рода, т.е. ради абстрактного наименования?»25 На почве историзма стало возможным еще в XVIII в. открытие и осмысление национальных литератур и культурных миров во всемирном масштабе, в единстве того, что Гёте назовет в 1820-е годы «мировой литературой» (Weltliteratur)26.
Противопоставляя себя Просвещению, историзм, однако, продолжает импульсы самого Просвещения (представление об «антиисторизме» Просвещения в немалой степени – инерция романтической полемики с просветительским рационализмом в конце XVIII – начале XIX в.)27. Иначе говоря, историзм был выражением (и разрешением) кризиса Просвещения постольку, поскольку классицистический идеал «совершенства» («готового слова», по терминологии А.В. Михайлова и С.С. Аверинцева) оказался на рубеже XVIII–XIX вв. в острейшем конфликте с новым, «современным» (modern) культурполитическим и этико-эстетическим метаимперативом «совершенствования» с его идеалами «образования» (Bildung) и «прогресса» – индивидуальной и общечеловеческой перспективой, которую И. Кант в своем истолковании идеи «просвещения» определил (1784) как «выход человека из состояния несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине»28. В сфере эстетики и литературной критики этому соответствовал сформулированный Ф. Шлегелем идеал «универсальной прогрессивной поэзии» (1798)29, а в сфере идеалистической философии истории – проект «новой мифологии» (1796), задуманный тремя свободолюбивыми выпускниками Тюбингенского теологического института – Шеллингом, Гельдерлином и Гегелем30.
В Германии общеевропейский процесс «прогрессивной» историзации получил наиболее глубокое теоретическое обоснование в контексте всей предшествующей духовно-идеологической и эстетической культуры, начиная с античности, – образ мыслей, который В. Дильтей в 1880-е годы объяснял тем, что «германский дух, в отличие от духа английского или французского, живет сознанием исторической преемственности», поскольку в немецкой традиции острее, чем во всякой иной национальной традиции, «минувшее выступает как момент сегодняшнего исторического сознания»31. Если решающим общественно-политическим событием в становлении историзма была Французская революция (1789–1794) с последовавшими за нею наполеоновскими войнами, перекроившими карту Европы, то «гениальная стадия» историзма, как эвристического принципа мировоззрения, приходится на те же 1790-е годы, когда в Германии произошла «духовная» революция в переживании и осмыслении исторического опыта – событие, в значительной степени обусловившее появление в XIX в. новой философии и новой филологии, «романтизма» и «реализма» в литературе и литературной критике (а равно и в политическом и теологическом мышлении), институционализацию гуманитарных наук («наук о духе») в их современном статусе. «Мы пережили восстания в духовном мире, точно так же, как вы – в мире материальном, – обращался Г. Гейне в 1830-е годы к своим французским читателям, – и при ниспровержении старого догматизма мы горячились не меньше, чем вы при взятии Бастилии»32.
На первом (основополагающем) этапе истории историзма – в период примерно между деятельностью Гердера и «бурных гениев» (1770-е годы) и Июльской революцией во Франции (1830), смертью Гегеля (1831), Гёте (1832) и В. Скотта (1832) – термин «историзм» еще не сложился, тогда как историческое сознание и историческое мировоззрение достигли наивысшей для XIX в. степени остроты. Напротив, после 1830 г. и особенно после провала европейских революций 1848–1849 гг., когда история стала переживаться уже не столько «романтически», сколько «реалистически», когда влияние А. Шопенгауэра вытеснило влияние Гегеля, а развитие естествознания сделало почти одиозным в популярном сознании само представление о «философии» (ср. тургеневского Базарова, а в карикатуре Достоевского – «бугорки на мозгу» Лебезятникова в «Преступлении и наказании»), – именно во второй половине XIX в. слово «историзм» постепенно входит в употребление, но чаще в полемически-негативном значении: историзм теперь почти отождествляется с крахом «нашего германского спиритуализма» (т.е. идеалистической классики и раннеромантического «энтузиазма»), хотя сама эта критическая рефлексия над «кораблекрушением духа» на новый лад все равно продолжает импульсы историзма33.
Философское обоснование гуманитарных наук (В. Дильтей и неокантианство); первые попытки принципиальной историзации традиционной (аристотелевской) поэтики (В. Дильтей и др.); появление программ «исторической поэтики» (в Германии – В. Шерер, в России – А.Н. Веселовский), сравнительного языкознания, истории литературы, истории филологии и того, что в ХХ в. Г.Г. Шпет назовет «этнической психологией» (школа «психологии народов» Х. Штейнталя, М. Лацаруса и В. Вундта); великий французский, английский, русский роман – все эти и другие важнейшие культурные события и достижения XIX в. приходятся на «позитивистские» его десятилетия, скорее чуждые эпохе Гёте и Гегеля, но ощущавшие себя – вплоть до поколения выдающегося итальянского философа-гегельянца и эстетика Б. Кроче (1866–1952), радикализовавшего концепцию историзма на рубеже XIX–XX вв.34, – не только в качестве «эпигонов» (ср. роман К. Иммермана 1836 г. под этим названием), но и в качестве восприемников так называемого «исторического сознания» и продолжателей либерально-гуманистической идеи «образования» и «культуры». Крах этой духовно-идеологической системы мировоззрения (и, соответственно, кризис историзма) произошел в «столетнее десятилетие» (выражение писателя Е.И. Замятина) 1914–1923 гг.35, когда, как сказано в прологе романа Т. Манна «Волшебная гора» (1924), «началось столь многое, что потом оно уже и не переставало начинаться»36. Новое переживание (а отсюда и новые концептуализации) истории – как в художественной литературе («В поисках утраченного времени» М. Пруста, «Улисс» Д. Джойса (1922), «Волшебная гора» Т. Манна, поэзия Т.С. Элиота, Э. Паунда, позднего Рильке и др.)37, так и в науках об искусстве и в научно-философском познании (так называемые «онтологический» и «лингвистический» повороты) привели в ХХ в. к радикальной критике самого термина «историзм» и ассоциировавшихся с ним ограничительных предпосылок и последствий «девятнадцатого века»38. Поэтому литературоведение ХХ в. настолько же отталкивается от литературоведения XIX в., насколько и немыслимо вне его; больше того: в своих наиболее «революционных» проявлениях литературно-критический «модерн» и особенно «постмодерн» подчас оказывались радикализованными изнанками и двойниками на словах преодоленной «эстетики содержания» в духе раннего Шеллинга и Гегеля – с одной стороны, и традиционного историзма XIX в. – с другой39. Эти и другие характерные для ХХ в. парадоксы возвращения к прошлому под видом его «преодоления» свидетельствуют не столько против историзма, сколько в его пользу – как и при всякой герменевтической рефлексии и ревизии традиции.
«Парадигма», с которой связан термин «историзм» и само представление об «историзме XIX века» как о «нормальной» (по терминологии Т. Куна) науке, сложилась под определяющим влиянием Гегеля (1770–1831), у которого, однако, слово «историзм» отсутствует. После того как революционный французский «союз ума и фурий» (Пушкин, «К вельможе», 1836 г.) и деспотический наследник революции Наполеон потрясли просвещенную Европу настолько, что сам просветительский «Разум» (Raison) с его резонерами «встретил свое Ватерлоо»40, – в эпоху Реставрации (1815–1830) Гегель теоретически обобщил и систематизировал весь предшествовавший опыт истории (от зарождения христианства до своей современности), связав и «примирив» в грандиозной спекулятивной конструкции всемирной истории все разорванные после 1789 г. «концы», более или менее внедрив в сознании современников и последующих поколений представление, в соответствии с которым «идея воистину является водителем народов и мира» и «разум господствует в мире», а «мировой дух» (Weltgeist) – в истории. Своего рода апофеозом этого спекулятивно-теологического (но претендовавшего на научность) историзма стала самая известная мысль Гегеля: «Что разумно, то действительно; и что действительно, то разумно»41. Влияние Гегеля на историческое сознание XIX в. было настолько сильным и глубоким, что даже осознанное отталкивание от его версии историзма (допускавшей как религиозное, так и атеистическое истолкование) еще долго оставалось в русле гегелевского идеализма (хотя бы и под маркой «материализма»). Таким образом, «нормальный» историзм XIX в. возник из «революционного»: социальные потрясения и духовные достижения эпоху Гёте и Гегеля позднее, в так называемый «предмартовский» (Vormärz) период (1830–1848) и особенно во второй половине XIX в., привели к тому, что, независимо от персональных пристрастий и предпочтений, во всех сферах культурного творчества, от теоретической эстетики до Realpolitik, возникла необходимость снова, но уже иначе, чем это удавалось классикам, соединить традиции классицизма, романтизма и идеализма с более трезвым и объективным духом времени, а идеалы свободы, разума и прогресса в истории – с реальностью «буржуазно-христианского мира»42.
Судьбы историзма XIX в., начиная с 1820-х годов, связаны как в искусстве, так и в науке (включая богословие) с критикой гегелевского историзма (как слишком «теологического» и «метафизического»). Революционно-эсхатологический историзм 1830–1840-х годов унаследовал от Гегеля веру в свободу и одушевлял писателей «Молодой Германии» (Менцель, Гейне, Берне, Гуцков, Лаубе и др.) в их стремлении слить литературу с жизнью наподобие того, как Гегель примирил идею с действительностью43; эта тенденция пронизывает и музыку молодого Р. Вагнера (вдохновлявшегося Л. Фейербахом), и философствование левых гегельянцев (тоже опиравшихся, как молодые Маркс и Энгельс, на Фейербаха)44. Критика гегельянства одновременно в философии, в литературе и в литературоведении протекала в трех основных направлениях, пронизанных, однако, «сквозной умонастроенностью» эпохи. С одной стороны, наиболее значительные философские критики Гегеля пытались реформировать его историзм, сохраняя при этом метафизически-теологическую схему «философии истории» en grand; таковы написанные по-немецки «Пролегомены к историософии» (1838) польского мыслителя графа А. Цешковского (повлиявшего на молодого А.И. Герцена45), «Курс позитивной философии» О. Конта (1842), знаменитый парижский курс лекций В. Кузена по «эклектической» философии истории (1828), программа «исторического материализма» молодых К. Маркса и Ф. Энгельса вплоть до «Коммунистического манифеста» (1849). С другой стороны, историософский конструктивизм, но в более популярной форме входит в моду, в частности, в литературной критике (под влиянием немецких теорий и в особенности романов В. Скотта): возникает потребность соотнести всю историю литературы со своею современностью, как, например, в знаменитом предисловии к «Кромвелю» В. Гюго (1827), а свою национальную литературу – с литературами других стран, как в книгах Ж. де Сталь «О литературе» (1808) и «О Германии» (1810–1813), в статьях молодого Т. Карлейля о Жан-Поле, Гёте, Л. Тике (1827–1828) и т.п. В тесном взаимодействии с современной литературой и философией (преимущественно немецкой) в первой трети XIX в. сформировалась целая плеяда блестящих французских историков (О. Тьерри, П. де Барант, Ф. Гизо, Ж. Мишле и др.)46, оказавшая мощное влияние на «историческое воображение» XIX в. в целом, включая писателей-реалистов47. Наконец, третье направление развития историзма в XIX в. связано с немецкой «исторической школой» (Б. Нибур, Л. ф. Ранке, И.Г. Дройзен, Я. Буркхардт, Т. Моммзен и др.), инициаторами которой выступили еще при жизни Гегеля, что важно, не профессиональные философы, а правовед Ф.К. ф. Савиньи48 и филолог-мыслитель В. ф. Гумбольдт. Благодаря в особенности усилиям великих немецких историков XIX в. понятие «философия истории» (в русском варианте – «историософия»), в сущности, утратило продуктивный смысл для научного исследования и для культурного сознания уже после Гегеля, сохранившись в ХХ в. лишь в более или менее мифологизированных представлениях той или иной «опоздавшей нации» (термин Х. Плесснера, 1935). При этом, однако, немецкий историзм XIX в. отличался (особенно во второй половине столетия) «прусским» национализмом и этатизмом, так что сто лет спустя тень «немецкой вины» неизбежно пала и на него: после 1945 г. понятие историзма зачастую отождествлялось с «немецким историзмом» и ассоциировалось с университетскими «мандаринами» донацистской и пронацистской Германии49. Тем не менее именно немецкая критика Гегеля в XIX в. привела к разработке научно-гуманитарных принципов историзма, которые сохраняют свою актуальность в XXI в., поскольку эти принципы противодействуют умственным спекуляциям и сегодня снова и по-новому модному конструктивизму. «Не с помощью Гегеля, – писал Г.-Г. Гадамер, – но только обращаясь к преодолевшим его наукам исторического опыта (гуманитарным наукам. – В.М.) можно действительно определить границу, положенную логике высказывания из нее самой»50. Однако «преодоление Гегеля», как и самого «фантома» идеализированной и мифологизированной классики51 инициировал уже историзм XIX в., научно-методологические принципы которого таковы: