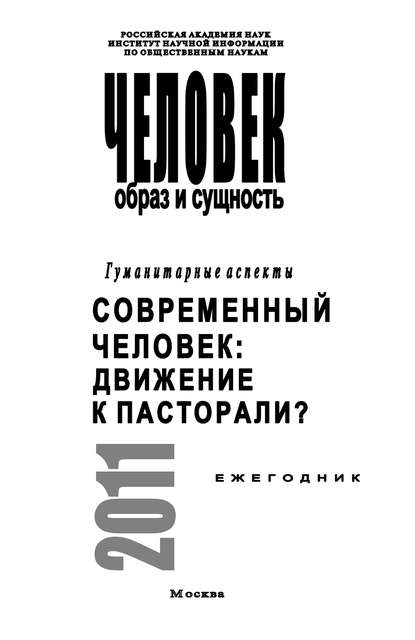Полная версия
Человек. Образ и сущность 2013. Гуманитарные аспекты. Языки меняющегося мира: Контакты и конфликты
Проблема кажется более доступной для своего решения, если Слово идентифицируется как Речь. Речь может видеться в качестве субстанции Слова, в которой начинают соединяться идеальное содержание знания с материей звука. Именно поэтому изучение речи оказывается ключевой задачей, имеющей практическое значение в общественной жизни.
Но нельзя не видеть и качественных различий речи: речь ребенка, речь повседневных коммуникаций, речь актера, речь политического или общественного деятеля, речь ученого – все это виды речи, в которых слово имеет разное качество. Уникальным качеством обладает речь как пение – оперное пение, пение эстрадных певцов, хоровое пение, любительское пение.
Имеется ли общая субстанция слова во всех видах речи и в чем она состоит?
Как представляется, Слово обретает очевидную общность в том, что можно условно назвать «архивом» времени. Это – документы, книги, статьи, дневники, рукописи, тексты художественной литературы и т.д. Везде используются слова, и слово играет роль Фиксатора сознания Времени, которое обретает тем самым свою константность.
Время в форме фиксированных слов может становиться предметом исследования, фактором формирования духовной традиции, т.е. цивилизованной действующей константой, влияющей на общественное сознание, духовный мир человека и образ его жизни. И в этой своей сущности Слово может становиться краеугольным камнем религиозного сознания. Вот что говорит Иисус Христос: «Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут»8. Константным цивилизационным смыслом слова, заключающим в себе универсальные нравственные ценности, определяется функция хранителя слова. Выполнение этой функции зависит от правильного понимания того, как образуется константный смысл слова и как он сохраняется и изменяется в исторической динамике.
Вокруг этой проблемы в последнее время развертываются все более активные концептуальные дискуссии, что безусловно связано с жизненными процессами межкультурной коммуникации, оказывающей все более заметное влияние на языковую ситуацию в различных регионах современного мира.
В связи с этим нельзя не обратить внимание на обстоятельную публикацию Джона Хоуторна (Оксфордский университет) и Эрнеста Лепори (Университет Рутжерса) «О словах»9. Рождение этой публикации связано с концептуальной реакцией на позицию Давида Каплана, сформулированную в ряде выступлений на азиатских, европейских и американских международных конгрессах. Позиция Каплана была первоначально сформулирована в 1990 г. в его статье «Слова»10.
Хоуторн и Лепори обращают внимание на два вопроса, поставленные в статье Д. Каплана:
1) при каких условиях два выражения выражают одно и то же слово;
2) что такое слова?
Эти вопросы, считают они, долгое время не привлекали внимания философов и лингвистов, хотя они являются фундаментальными для философии языка и лингвистики.
Каплан исходит из того, что существуют две основные модели отношений между словами – знаками и различными физическими объектами. Знаки являются знаками слова. А идентичность слова начинается либо с орфографической либо с фонетической формы.
Идентичность орфографической формы слова определяется порядком букв в слове и наличием или отсутствием интервалов между буквами. Например, английское слово «dog» означает собака. Но если мы переставим те же самые буквы и напишем «god», то идентичность слова исчезает, оно обретает совсем другой смысл.
Можно игнорировать орфографию при определении идентичности слова и обращать внимание только на звуки, на последовательность фонем. Эта тенденция уходит своими корнями в позицию Аристотеля, который считал написание слова простым заменителем его звучания. Вместе с тем одно и то же слово как в своем звучании, так и в форме написания может иметь несколько значений. Например, в словаре В. Даля слово «прелесть» имеет значение «обольщения», «обмана» и в то же время «изящества», «красоты»11. Или возьмем в качестве примера английское слово «nick» – знак идентичности. Оно может быть существительным – a prison (тюрьма) и глаголом – steal (красть), catch (схватить)12. Вторая модель, к которой и склоняется Каплан, является стадийно-продолжающейся (stage-continuant). Согласно этой модели слова – долгоживущие объекты, на основе которых могут возникать ответы краткоживущие, – это высказывание и написание.
Хоуторн и Лепори считают, что это – позиция метафизики, полагающая, что слово – это константа с разнообразием высказываний и написаний. Конкретное написание и высказывание слова становятся составной частью пространственно-временного континуума, в котором сохраняется идентичность слова. Идентичность слова можно рассматривать по аналогии с идентичностью личности: человек – это слияние стадий его личности.
Таким образом, Каплан придерживается модели, которая предполагает сохраняющееся основание слова (как основание личности) при возможных его внешних модификациях.
Но как возникает это основание? Оно может возникать в той исходной точке, в которой звучание слова «привязывается» своим смыслом к обозначаемому объекту. Этот смысл и должен сохраняться неизменным при всех эмпирических модификациях слова.
Это значит, что эмпирические модификации слова не могут играть существенной роли в определении его «субстанции».
С этим и не соглашаются Хоуторн и Лепори.
Хоуторн и Лепори считают модель Каплана неудовлетворительной, поскольку представление о сохраняющемся слове как архипелаге высказываний не может соответствовать тому модельному профилю, с которым слово ассоциировалось вначале13. Они также отмечают, что модель, которую предлагает Каплан, не охватывает особенностей изменения идентичности слова в ситуации его морфемных различений. Морфемы позволяют формировать разнообразие смыслов слов. Так, например, в английском языке приставка «un» может коренным образом изменить смысл слова «happy». «Unhappy» – это качественное изменение смысла. Многократное изменение смысла может происходить при использовании приставки anti- (missile, anti-missile, anti-anti-missile). В итоге могут возникать слова, которые не имеют для себя обозначаемого объекта в реальной действительности.
Реальность таких слов не находит достаточно убедительного объяснения в модели Каплана, которая требует обязательной реальности того исходного объекта, который и обозначается словом, и обеспечивает сохранность его смысла. Проблема объяснения возникает и в том случае, когда имеются в виду невысказанные слова.
Каплан считает, что мир не соприкасается с невысказанными словами, тогда как в действительности может быть внутренний поток слов, которые не реализуются в открытых высказываниях. Хоуторн и Лепори предлагают абстрактно-артикуляционную (abstracta-articulations) модель, в соответствии с которой образование слова не обязательно нуждается в исходном основании своей идентичности. Морфемы не имеют содержательной идентичности, но их применение формирует содержание новых слов. Оказывается, что сама по себе абстрактная сущность словообразования может порождать смысл слова. И это, как кажется, «торпедирует» модель Каплана.
Критика модели Каплана в конечном счете завершается выдвижением абстрактно-артикуляционной модели, которая легитимизирует рождение идентичности слова из спекулятивной в своей сущности комбинации абстракций. Но это – очевидная легализация метафизики Слова. Очевидно и другое. Сама по себе спекулятивная метафизика абстракций не проясняет проблему смысла. На самом деле, казалось бы абстрактное сочетание морфемы «un» со словом «happy» рождает совершенно новое слово – «unhappy». Но если мы в морфеме заменим букву «u» на «о», то не получим нового слова. Аналогичным образом, заменяя четыре буквы «anti» четырьмя буквами «from», мы не получаем смыслового сочетания – from-missile, from-from-missile или какого-то нового слова. Это значит, что абстрактно-артикуляционная модель перестает действовать, как только она абстрагируется от реального языкового становления, в значительной мере «привязанного» к относительно константным смыслам звукового или письменного выражения слов. Если бы эта связь не имела значения, то тогда слова возникли бы путем использования произвольных статистических сочетаний отдельных букв или произвольно составленных буквенных блоков.
В концепции Каплана ключевое значение имеет понятие «повторение»; это понятие он определяет как центральное. Поскольку одно и то же слово исторически может исполняться различным образом по форме своего написания и по звучанию, то Ка-план вводит понятие интенционального повторения (intentional repetition), которое фиксирует внутреннее стремление повторения того однозначного смысла, который начинает воспроизводиться иначе сравнительно с его первоначальными формами произношения и написания. Интенция играет конституитивно роль: что бы ни выходило из-под пера или из гортани рта индивида, он будет исполнять то же самое слово. Хоуторн и Лепори выдвигают экстремальные примеры, ставящие под сомнение концепцию повторения и конституирующей роли интенции. Они утверждают, что, например, когда англичанин видит последовательное сочетание четырех букв – «в», «а», «в» и «у», – то он произносит «baby», что означает ребенок, не потому что он вспоминает смысл этого слова. Он фиксирует его смысл непосредственным образом, здесь и сейчас. Однако это суждение не представляется корректным. Англичанин знает смысл соединенных вместе этих четырех букв именно в такой последовательности. Поэтому их смысл возникает непосредственным образом здесь и сейчас. Если англичанину предложить в английской транскрипции буквы «d», «i», «t», «y», «a» (ditya – дитя), что также означает «baby», то он, если не знает русского языка, вряд ли расшифрует его смысл.
Концепция Каплана обнаруживает свое практическое значение в условиях, когда приходится иметь дело с массовыми искажениями языка при изменении акцентов, грамматических правил и т.д. и т.п.
Конституитивная роль интенции продолжает действовать, и она улавливается в процессах практической коммуникации. Иначе было бы невозможно объяснить взаимное понимание друг друга иммигрантами и коренным населением, иностранными туристами, весьма приблизительно произносящими иностранные для них слова, и местными жителями.
Слабое место концепции Каплана обнаруживается в толковании сущности имен собственных. Каплан, исходя из своей доктрины, полагает, что имя собственное имеет единственное генетически-изначальное происхождение. Иными словами, имя каждого индивида относится только к нему, получившему его при рождении.
Проблема возникает тогда, считают Хоуторн и Лепори, когда одно и то же имя относится к разным личностям: John Donne и John Travolta – здесь одно и то же написание и одно и то же звучание в одном и том же языке, в данном случае английском, относятся к совершено разным объективностям, личностям, разным индивидуальностям. И это не вызывает ни у кого какого-либо смыслового напряжения. Почему?
Если действительное наименование осуществляется во внутреннем языке («I-language»), то тогда мы имеем два разных наименования, хотя они имеют одинаковую форму во внешнем языке. Но тогда мы можем допустить и такую ситуацию, когда два разных слова во внешнем языке могут означать одно и то же применительно к языку внутреннему.
В качестве объяснения этого феномена предлагаются два возможных варианта. Имя может быть следствием любого события, в котором осуществлялось присвоение имени. Скажем, имя Johnny могло даваться ребенку во время акта крещения. Но это же имя могло даваться и яхте, которая уходила в плавание.
Идентификация происходит посредством рассмотрения каузальной цепи коммуникации (трансференции). Это значит, что нужно пройти по цепи каузальных связей до начального события, которое фиксирует связь данного наименования с этим начальном событием.
Таким образом, правильное употребление слов оказывается связанным с определением критерия идентичности.
Можно говорить о двух критериях идентичности слов. Первая форма относится к явлениям одного и того же домена. Явления идентичны, если они состоят из одинаковых составных частей. Или события идентичны, если они имеют одни и те же причины и одни и те же следствия.
Вторая форма относится к различным доменам, но находящимся в определенной взаимной зависимости. К ней относится критерий идентичности Фреге для направлений и чисел. Так, например, две линии идентичны в своей направленности, если они параллельны. Или два класса объектов обозначаются одним и тем же числом, если они оказываются в отношении друг к другу как один к одному.
Применительно к слову эти критерии могут выглядеть следующим образом. Слово а1 и слово а2 имеют в основе одно и то же событие, их породившее, где порождающее событие совпадает с первым исполнением слова. Вторая форма идентичности может выглядеть следующим образом: слова а1 и а2 идентичны, если невозможно, чтобы исполнялось а1 и при этом не исполнялось а2. Однако эта форма представляется неадекватной, поскольку при наличии двух разных слов исполнение а1 не обязательно влечет за собой исполнение а2.
Если слово заменить интенцией, то идентичность интенции может вступать в парадоксальное противоречие с ее внешней реализацией. Например, когда мы имеем исполнение одной и той же песни разными исполнителями, то можем считать их интенции идентичными. Однако исполнение эстрадной песни, скажем, Муслимом Магомаевым, и «исполнение» безголосым «певцом» той же песни, похожим на мычание, признать идентичными невозможно.
Хоуторн и Лепори склоняются к тому, что применительно к слову можно использовать тот же критерий идентичности, который применяется в отношении к танцам и играм.
Община всегда достаточно точно оценивает идентичность исполнения традиционных для нее танцев, несмотря на известные нюансы творчества конкретных исполнителей. Она способна отличить новый танец от старого танца в новом одеянии. Однако как эта ситуация может относиться и к слову? Трудно определить, когда было впервые исполнено то или иное слово и в каком контексте.
Например, в употреблении в английском языке двух слов – «moan» (хрюканье) и «mean» (огрубление звучания мелодии) – с одинаковой степенью правильности считается, что это одно и то же слово, но правильным считается и то, что в данном случае используются разные слова.
Здесь и открываются возможности различных философских опосредований словесной идентичности. Если трактовать слово как ошибочную онтологическую проекцию, полагают Хоуторн и Лепори, то занять какую-то одну определенную позицию в качестве единственно истинной представляется проявлением шовинизма.
Но как быть с аналогией сохранности смысла слова с идентичностью личности? Если следовать метафизическому руководству внутреннего раскола личности, то тогда можно признать, что с самого начала, т.е. всегда в одном человеке существовали две личности. Но признать, что с самого начала в одном слове существовали два слова, кажется противоестественным. Похожая на лексему концепция слов, даже снабженная орудиями теоретической лингвистики, может оказаться не более чем ошибочной смесью поверхностности и неопределенности смысла слова.
Последовательный эмпиризм, усматривающий сущность слова в его первоначальной, исходной связи с обозначаемым объектом, как и абстрактно-артикуляционная модель, выводящая смысл из комбинаций абстрактных словообразований, проходят мимо ключевой субстанции слова, превращающей человека в субъект творческой деятельности.
Практическая реализация этих моделей в ткани жизни рождает «мертвое» слово. В определенных социальных ситуациях эта тенденция приобретает доминирующий характер. Это хорошо поэтически выразил Николай Гумилёв:
Мы ему поставили пределомСкудные пределы естества,И, как пчелы в улье опустелом,Дурно пахнут мертвые слова.Николай Гумилёв «Слово»«Лекарство» от смерти слова, как представляется, можно получить, если понять происхождение языка. Именно в происхождении языка должна находиться отгадка парадокса Слова.
4. Загадки происхождения языкаЕсли субстанция слова обусловлена происхождением языка, в котором слово первоначально и обретает свою сущность, то, проясняя происхождение языка, можно разорвать порочный круг метафизики и эмпиризма в истолковании слова. На самом деле движение мысли от спекулятивной метафизики к эмпирическому истолкованию сущности слова, а затем к неизбежному возрождению метафизического мышления может восприниматься как попадание в замкнутый круг, похожий на концептуальную мышеловку. Естественно предположить, что для того, чтобы выбраться из него, необходимо опереться на научные данные. Это, прежде всего, результаты антропологических и опытных исследований.
Полученные результаты и должны дать однозначный ответ на вопрос: откуда «взялся» человеческий язык, а значит, и слово – простая и в то же время загадочная реальность?
Дают ли новейшие научные исследования ответ на этот вопрос?
В 2007 г. в ИНИОН РАН была опубликована работа С.А. Бурлак «Происхождение языка: новые материалы и исследования»14, в которой были представлены в обобщенном виде базирующиеся на научных исследованиях ответы на поставленный вопрос. Это был своего рода когнитивный прорыв психологического барьера, существовавшего со второй половины ХIХ столетия. Известно, что Парижское лингвистическое общество в 1866 г. наложило запрет на рассмотрение работ, посвященных проблемам происхождения языка. Однако во второй половине ХХ в. наблюдается нарастание потока исследований в этой области. С.А. Бурлак высказала суждение, согласно которому к началу нового тысячелетия обсуждение проблемы происхождения человеческого языка вышло на вполне научный уровень»15. При этом умозрительные работы выносились за «скобки» научных границ. Философские размышления кажутся «простыми историями» сравнительно с данными этологии, нейрофизиологии, генетики, психолингвистики, археологии и антропологии. Эта «тяжелая артиллерия» науки должна была пробить любые крепостные стены.
Как отвечает на вопрос о происхождении языка комплекс этих наук?
Прежде всего, считается закономерным обращение к новым знаниям об ископаемых гоминидах. Что оно дает? Это обращение позволяет окончательно поставить крест на гипотезе «мозгового Рубикона», т.е. необходимости для появления речи достижения объема мозга в 750 см3. Оказывается, у некоторых типичных архантропов объем мозга уменьшается пропорционально уменьшению тела и достигает 400 см3. Другой аспект проблемы – членораздельная речь. К числу анатомических признаков, наиболее важных для происхождения членораздельной речи, относили низкое положение гортани. Однако исследования показали отсутствие у современных людей надежной корреляции между этими факторами. Важным качеством языка человека считается способность произносить длинные высказывания. Без этого невозможен синтаксис. Эта способность связывалась с шириной позвоночного канала. Однако, как оказалось, прямоходящие архантропы имели позвоночный канал примерно той же ширины, как и другие приматы. Происхождение языка связывалось с возникновением специфических выпуклостей на внутренней поверхности черепа в областях, где у людей находятся речевые центры (поле Брока и поле Вернике). Однако границы зон Брока и Вернике бывают не вполне очевидны даже при изучении мозга живых людей16.
Хорошая наука кажется совпадающей с открытием конкретного явления, которое и есть очевидная причина происхождения языка. Но это представление, как ни странно, может подтолкнуть исследователя, отвергающего традиции классической философии, к попаданию в объятия плохой философии.
В качестве примера можно привести суждение, как бы «научно» фиксирующее реальный процесс: «В процессе онтогенеза (не только у детей, но и у взрослых) язык как бы блуждает по коре, выбирая… где ему “угнездиться”»17. В этих «научных» категориях язык предстает как субъект, самостоятельно принимающий решения о своем пространственном местонахождении. Характеристика его перемещения («как бы блуждает») допускает, что субъект не совсем точно ориентируется в обстоятельствах и действует методом проб и ошибок, выбирая свое местонахождение.
Таким образом радикальный подход, снисходительно относящийся к традициям философии, вынужден следовать своей крайне примитивной, если не сказать, убогой «философии».
Высказывались суждения, согласно которым для возникновения языка важное значение имеет асимметрия мозга. Но асимметрия мозга обнаруживается у самых разных животных18 – у млекопитающих, птиц и земноводных.
Считается, что огромное значение для понимания происхождения языка имеет обнаружение «зеркальных нейронов», которые сыграли важную роль в формировании поведенческого подражания, что помогло формироваться и звуковому подражанию. Но это не решение проблемы происхождения языка, поскольку речь идет о подражании уже существующему языку, происхождение которого и следовало бы объяснить.
Перспективным представляется путь, ведущий от естественных способностей развитых животных, таких как дельфины и приматы, к человеческим свойствам. Имеется в виду, что процесс совершенствования механизмов манипуляции с различными предметами влечет за собой развитие мышления, которое может получать свою внешнюю реализацию в формах звука. Разве это не праязык, который в процессе естественного отбора и осуществляет «скачок» к языку человеческому?
Обработанный шимпанзе предмет, который используется для решения какой-то конкретной задачи, – это свидетельство «обратного моделирования», т.е. наличия образа предмета в сознании обезьяны и «плана» его реального использования. Значит, у шимпанзе имеется цель, наличие орудия, которым она обрабатывает материал, превращая его в новое орудие, позволяющее ей достигнуть поставленной цели.
Возникает вопрос: почему же она не начинает пользоваться членораздельной речью и не создает свой язык? Быть может, она все же имеет свой язык, но отличный от языка человека? Исследователь, возможно, совершает ошибку, если ожидает, что обезьяна должна заговорить именно человеческим языком? Но тогда следует допустить существование языка и у дельфинов, поскольку они обладают механизмами звуковой коммуникации, признать наличие языка птиц, как разговорного, так и певческого.
Очевидно, однако, что этим путем мы уходим от проблемы, даже отрицаем ее существование, поскольку начинаем толковать сущность языка как тождественного звуковой коммуникации, существующей в животном мире.
Кажущиеся перспективными попытки увязать происхождение языка с верхнепалеолитической революцией с ее технологией пещерной живописи и с возникновением таких форм социальности, которые позволяли сосредоточиваться на создании орудий, требующих длительной обработки, специальных навыков в осуществлении большого количества операций, представляются сугубо гипотетическими, поскольку прямая связь технологии и рождения языка не устанавливается. Свои загадки порождает и попытка найти решение проблемы происхождения языка в генах. Однако до сих пор наука не может дать однозначного ответа и на вопрос о родословном древе человека. На роль его исходного предка (если не считать Адама) имеется по крайней мере семь претендентов19.
Открытие генов, играющих важную роль в функционировании языка, стало толчком для поиска той мутации, которая должна была привести к формированию речевого аппарата, изменению формы черепа, позволившим перестроить работу мозга и «вложить» в него языковую способность.
Однако получение таких результатов изменением молекулы ДНК некоторые исследователи сравнивают со сборкой самолета смерчем, пронесшимся по свалке20
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
1
См.: Иоанн 1: 4. Здесь и далее цитаты приводятся по синодальному изданию. – Прим. авт.
2
См.: The concise Oxford dictionary. – 9th ed. – Oxford, 1995. – P. 317.
3
См.: Культурология: Дайджест. – М., 2012. – № 4 (63). – С. 268–269.
4
См.: Bromberger S. What are words? // J. of philosophy. – N.Y., 2001. – Vol. 108, N 9. – P. 503.