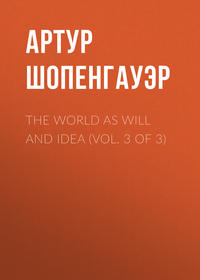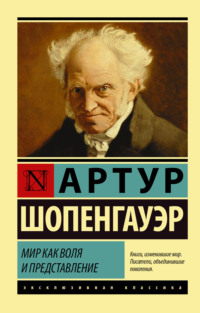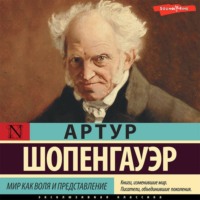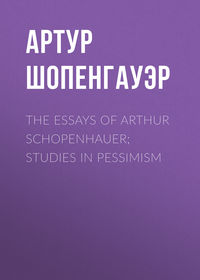Полная версия
Краткий курс истории философии

Артур Шопенгауэр
Краткий курс истории философии
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2018
* * *
Артур Шопенгауэр 1788–1860
Артур Шопенгауэр: «Кто не любит одиночества, тот не любит и свободы»
Имя немецкого мыслителя Артура Шопенгауэра неразрывно связано с учением иррационализма. В противовес рационалистам (от лат. ratio – разум), иррационалисты полагали, что роль разума в познании мира и вообще в человеческом бытии – ничтожна. Отнюдь не разумом можно наиболее достоверно постичь окружающее, – заявляли приверженцы этой философии. Отдельные области подвластны только инстинктам, вере, интуиции, откровению. Человеческий разум – скорее ограничитель, нежели универсальный путь, ведущий нас к истине!
Шопенгауэра называют пессимистом, мизантропом, человеконенавистником – и в самом деле, его афоризмы наподобие «вежливость – это фиговый лист эгоизма» и «человек – в сущности, дикое страшное животное» не отличаются оптимизмом и не внушают особых надежд. Но при этом философ уважал миролюбивые идеи буддизма, очень любил животных, преклонялся перед искусством.
В основном творении Артура Шопенгауэра – «Мир как воля и представление» – огромное внимание уделено понятию «воля», которое мыслитель видел практически синонимом слов «стремление», «вожделение», «желание». Именно воля к жизни приводит в движение все существующее под солнцем – и она же является причиной страдания из-за несоответствия желаний и возможностей… Актуально и сегодня, не правда ли?
22 февраля 1788 года Артур Шопенгауэр родился в Гданьске в семье коммерсанта.
1805 – семнадцатилетний Артур начинает работать в представительстве торговой компании в Гамбурге.
1809 – поступление в Геттингенский университет. Сначала на медицинский факультет, но впоследствии Шопенгауэр перешел на философский.
1812 – получено звание доктора философии. 1819 – начинает издаваться основной и самый известный труд Шопенгауэра «Мир как воля и представление», который впоследствии неоднократно дополнялся и переиздавался.
1820 – начало работы в Берлинском университете.
1839–1841 – с интервалом в один год выходят работы «О свободе воли», «Об основе морали», «Две основные проблемы этики».
21 сентября 1860 – Шопенгауэр скончался от воспаления легких.
Предисловие
Творческое наследие Шопенгауэра довольно обширно – особо популярны у широкой публики его язвительные, подчас двусмысленные афоризмы, например: «кто придает большое значение мнению людей – делает им слишком много чести». В своих произведениях мыслитель рассматривал вопросы морали, этики, метафизики – природы бытия, существования «тонкого мира».
Относительно рода человеческого у философа нет особых иллюзий – так же как и любой другой представитель животного мира, человек, по его мнению, движим темными, природными инстинктами, но может если не спастись от неминуемого разочарования, то хотя бы смягчить его проявления. Для этого нужно внимание и сострадание – в первую очередь к тем, кто заведомо слабее человека. Хотя бы к животным и растениям.
Несмотря на весь свой пессимизм и неоднозначное отношение к «книжной мудрости, которая отучает думать», Шопенгауэр очень живо отзывался на все происходящее, систематизировал и обобщал опыт предшественников. Мы отобрали для вас несколько наиболее показательных отрывков из произведений философа, которые помогут начинающему любителю философии возможно более широко познакомиться с системой великого иррационалиста, а более опытному читателю, возможно, раскроют новые горизонты. Ведь философию невозможно «изучить полностью»…
Краткий курс истории философии
§ 1
Об истории философии
Вместо подлинных произведений философов читать всякого рода изложения их учений или вообще историю философии – это то же, что пользоваться услугами других для разжевывания своей пищи. Разве стал бы кто читать всемирную историю, если бы во власти каждого было собственными глазами видеть интересующие его события прошлого времени? Но ведь по отношению к истории философии нам действительно доступна подобная аутопсия ее содержания, именно – в подлинных сочинениях философов. Конечно, ради краткости можно ограничиться в них надлежащим образом избранными главными отделами, тем более что все они изобилуют повторениями, на которые нет нужды терять время. Таким путем, следовательно, можно приобрести точные и неискаженные сведения о сущности философских учений, тогда как из историй философии, ежегодно появляющихся теперь полудюжинами, можно узнать только то, что перешло из этих учений в голову какого-нибудь профессора философии, и к тому же в таком виде, какой оно там приняло. Само собой разумеется, что мысли великого ума должны значительно сжаться, для того чтобы уместиться в трехфунтовом мозгу такого паразита философии, откуда они потом выходят облеченными в модный жаргон данного дня, сопровождаемые суждениями доморощенной мудрости. Сверх того, надо принять во внимание, что подобного рода ремесленный историограф философии даже и прочесть-то может едва ли десятую часть сочинений, о которых он упоминает; их действительное изучение требует целой долгой и трудовой жизни, которую некогда, в старые прилежные времена, и посвятил этому делу честный Бруккер. Какого же основательного исследования можно ждать от этих людишек, которые, отвлекаемые постоянными лекциями, служебными обязанностями, каникулярными поездками и развлечениями, выступают с историями философии по большей части уже в молодом возрасте? А к тому же они хотят еще быть и прагматичными, уразуметь и показать необходимость возникновения и смены систем; мало того – они еще обсуждают, исправляют и критикуют серьезных, истинных философов прежнего времени. Очевидно, при таких условиях возможно лишь то, что они списывают у своих предшественников и друг у друга, а затем, чтобы скрыть это, все более и более искажают заимствованное, стремясь придать ему современный облик текущего пятилетия; и все это они обсуждают согласно с духом последнего. Очень полезен был бы, напротив, честными и умными учеными сообща и добросовестно составленный сборник важных мест и существенных отделов из всех главных философов – отделов, расположенных в прагматико-хронологическом порядке, нечто вроде того, что издали по философии древности сначала Гедикке, а впоследствии Риттер и Преллер, только гораздо подробнее: тщательно и со знанием дела собранная большая и всеобщая хрестоматия.
Предлагаемые мною здесь фрагменты, по крайней мере, не имеют традиционного характера, т. е. не списаны: это, скорее, мысли, навеянные собственным изучением оригинальных произведений.
§ 2
Досократовская философия
Элейские философы, несомненно, первые уловили противоположность между созерцаемым и мыслимым, φαινόμενα и νοούμενα. Только последнее было для них истинно сущим, ὂντως ὂν. О нем они утверждали затем, что оно едино, неизменно и неподвижно; другое дело, по их мнению, φαινομένοις, т. е. созерцаемое, являющееся, эмпирически данное, к которому прилагать подобные эпитеты казалось им прямо смешным: поэтому-то Диоген однажды и прибег к своему известному опровержению столь дурно понятого тезиса. Таким образом, они, собственно, уже различали между явлением, φαινόμενον, и вещью в себе, ὂντως ὂν. Последняя не могла быть объектом чувственного воззрения, а постигалась только мыслью, была, следовательно, νοούμενον (Aristoteles. «Metaphysica», I, 5, р. 986 и scholia, edit. Berol., р. 429, 430 и 509). В схолиях к Аристотелю (с. 460, 536, 544 и 798) упоминается сочинение Парменида «Τα κατα δόξαν»; это было, очевидно, как бы учение о явлении – физика; ему соответствовало, без сомнения, другое произведение, «Тὰ κατ’ ἀλήϑειαν», учение о вещи в себе – метафизика. О Мелиссе одна схолия Филопона прямо сообщает: «Έν τοῖς πρὸς ἀλήϑειαν ἒν εῖναι λέγων τὸ ὂν, έν τοῖς πρὸς δόξαν δύο (надо бы сказать – πολλά) φησὶν εῖναι»[1]. Противоположно учению элейцев, да им, вероятно, и вызвано, учение Гераклита, который признавал непрестанное движение всех вещей, как они – абсолютную неподвижность: таким образом, он не пошел дальше φαινομενον (Arist. «De coelo», III, 1, p. 298, edit. Berol.). Этим, в свой черед, он вызвал – как свою противоположность – платоновское учение об идеях, что можно видеть из слов Аристотеля («Metaphysica», р. 1078).
Достойно замечания, что сохранившиеся в небольшом числе главные тезисы досократовских философов бесчисленное количество раз повторяются в сочинениях древних, – сверх же этого сообщается очень немногое; таковы, например, учения Анаксагора о νους̃ (ум) и όμοιομερίαι (гомеомерии), учения Эмпедокла о φιλία και νεῖκος (любовь и вражда) и о четырех стихиях, учение Демокрита и Левкиппа об атомах и έιδωλοις, учение Гераклита о постоянном течении вещей, изложенное выше учение элейцев, учение пифагорейцев о числах, метемпсихозе и т. д. Вполне, впрочем, возможно, что это и был итог всего их философствования. Ведь и в произведениях новейших философов, например, Декарта, Спинозы, Лейбница и даже Канта, немногие основные положения их систем встречаются в бесчисленном повторении, так что все эти философы как будто усвоили девиз Эмпедокла, который тоже, вероятно, был уже любителем репетиционного знака: δὶς καὶ τρὶς τὰ καλά (о добре можно говорить и дважды и трижды) (см.: Штурц. «Empedodis. Agrigentini», р. 504).
«Вместо подлинных произведений философов читать всякого рода изложения их учений или вообще историю философии – это то же, что пользоваться услугами других для разжевывания своей пищи»
Два упомянутых положения Анаксагора стоят, однако, в тесной связи между собой: именно, выражение πάντα ὲv πᾶσιν (все во всем) служит у него символическим обозначением для теории гомеомерий. Таким образом, в хаотической первичной массе содержались в совершенно готовом виде partes similares[2] (в физиологическом смысле) всех вещей. Для их выделения и для их сочетания, расположения и преобразования в специфически различные вещи (partes dissimilares)[3] нужен был некий νους, который, сортируя составные части, привел бы в порядок ха отическую смесь, так как хаос ведь представлял собою полнейшее смешение всех веществ (scholia in Aristotelem, p. 337).
Однако это первое разделение νους произвел не вполне, так что в каждой вещи все еще находились составные части всех прочих, хотя и в меньшей мере: «Πάλιν γὰρ πᾶν ὲν παντὶ μέμικται»[4] (ibidem).
С другой стороны, Эмпедокл вместо бесчисленных гомеомерий признавал лишь четыре стихии, из которых, по его мнению, и вышли все вещи, в качестве их продуктов, а не эдуктов, как у Анаксагора. Объединяющую же и разъединяющую, т. е. устрояющую, роль νου ̃ς ̛а играют у него φιλία και νεῖκος, любовь и вражда. И то и другое положительно гораздо удачнее. Именно, устроение вещей он препоручает не интеллекту (νου ̃ς), а воле (φιλία καὶ νεῖκος), и разнородные вещества у него не просто эдукты, как у Анаксагора, но действительные продукты. Если Анаксагор приписывал их создание разобщающему рассудку, то Эмпедокл, напротив, приписывает его слепому влечению, т. е. лишенной познания воле.
Вообще, Эмпедокл – человек цельный, и в основе его φιλία καὶ νεῖκος лежит глубокое и верное aperçu, наблюдение. Уже в неорганической природе мы видим, как вещества по законам избирательного сродства ищут и избегают друг друга, соединяются и разлучаются. В то же время те из них, которые обнаруживают сильнейшую наклонность к химическому соединению между собой, получающую, однако, удовлетворение лишь в их жидком состоянии, вступают в решительную электрическую противоположность, когда им случается соприкоснуться в состоянии твердом: они враждебно разделяются тогда на противоположные полярности, чтобы затем вновь искать и обнимать друг друга. Да и вообще, что такое во всей природе везде и всегда под самыми различными формами выступающая полярная противоположность, как не постоянно возобновляемый раздор, за которым следует страстно желаемое примирение? Таким образом, действительно, φιλία καὶ νεῖκος присутствуют везде, и лишь в зависимости от обстоятельств каждого отдельного случая проявляется то или другое. Вот почему и мы сами мгновенно можем подружиться или поссориться с каждым встречным: предрасположение к тому или другому уже имеется и лишь ожидает нужных условий. Только благоразумие повелевает нам оставаться на безразличной точке равнодушия, хотя это есть вместе с тем и точка замерзания. Точно так же и чужая собака, к которой мы приближаемся, в один момент готова настроиться на дружеский или враждебный тон и легко перескакивает от лая и рычания к вилянию хвостом и наоборот. То, что лежит в основе этого всепроникающего явления φιλία καὶ νεῖκος, это, разумеется, в конце концов, великая первопротивоположность между единством всех существ по их внутреннему бытию и их полным различием в явлении, имеющем своею формою principum individuationis[5]. Равным образом Эмпедокл объявил ложною уже известную ему атомную теорию и учил, напротив, о бесконечной делимости тел, как нам сообщает об этом Лукреций (кн. I, ст. 749 и сл.).
Особенного же внимания среди учений Эмпедокла заслуживает его решительный пессимизм. Он вполне познал горесть нашего бытия, и мир для него, как и для истинных христиан, – юдоль скорби, ἂτης λειμών. Уже у него встречается сделанное впоследствии Платоном сравнение мира с мрачной пещерой, в которой мы заточены. В нашем земном бытии он видит состояние изгнания и горя, и тело для него – темница души. Души эти обретались некогда в бесконечно счастливом состоянии и по собственной вине и греху навлекли на себя теперешнюю гибель, в которой они, при греховном поведении, запутываются все более и более, попадая в круговорот метемпсихозы; тогда как, оставаясь добродетельными, и соблюдая чистоту нравов, куда относится также воздержание от животной пищи, и уклоняясь от земных наслаждений и желаний, они снова могут достигнуть своего первоначального состояния. Таким образом, та же исконная мудрость, которая составляет основную мысль брахманизма и буддизма, а также истинного христианства (под ним не надо понимать оптимистического, иудейско-протестантского рационализма), открылась сознанию и этого древнего грека, чем вполне довершается consensus gentium[6] в этом отношении. Что Эмпедокл, которого древние постоянно причисляют к пифагорейцам, перенял это воззрение от Пифагора, – это представляется вероятным, особенно ввиду того, что в сущности его разделяет и Платон, который также продолжает еще находиться под влиянием Пифагора. За учение о метемпсихозе, состоящее в связи с этим миросозерцанием, Эмпедокл высказывается самым решительным образом. Места из древних, которые вместе с собственными стихами Эмпедокла свидетельствуют о таком его миропознании, с большим усердием собраны в книге Штурца: «Empedocles Agrigentinus» (с. 448–458). Взгляд, что тело – темница, а жизнь – состояние страдания и очищения, откуда – после того как мы покончим с переселением душ – выручает нас смерть, это взгляд, присущий как египтянам, пифагорейцам, Эмпедоклу, так и индусам и буддистам. За исключением метемпсихозы, он содержится также в христианстве. О таком взгляде у древних свидетельствуют Диодор Сицилийский и Цицерон (см. у Вернсдорфа «De metempsychosi Veterum», р. 31 и Ciccero. «Fragmenta», р. 299 (сон Сципиона), 316, 319, изд. Бипонтини). Цицерон не указывает в этих местах, какой философской школе принадлежат излагаемые мысли, но, по-видимому, это – остатки пифагорейской мудрости.
«Метафизику музыки, как она там изложена мною, можно считать истолкованием пифагоровской философии чисел»
И в других положениях этих досократовских философов можно отыскать много верного, чему я и приведу здесь несколько примеров.
По космогонии Канта и Лапласа, получившей себе в наблюдениях Гершеля еще и фактическое апостериорное подтверждение, которое снова пытается поколебать на радость английскому духовенству лорд Росс со своим исполинским рефлектором, – из медленно сгущающихся и затем в круговое движение приходящих светящихся туманных пятен образуются путем сгущения планетные системы: таким образом, спустя тысячелетия вновь оказывается правым Анаксимен, признававший воздух и пар основной материей всех вещей (schol. in Arist., р. 314). Вместе с тем получают себе поддержку также Эмпедокл и Демокрит, так как уже они, вполне сходно с Лапласом, принимали происхождение и существование мира из некоего вихря, δίνη (Arist. op. ed. Berol., p. 295 и scholia, p. 351), над чем смеется уже Аристофан как над безбожием («Облака», ст. 820), – совершенно как в наши дни насмехаются над лапласовской теорией английские попы, которым она, подобно всякой выступающей на свет истине, очень не по душе, ибо является угрозой для их бенефиций. Даже и наша химическая стехиометрия напоминает несколько пифагорейскую философию чисел: «Τὰ γάρ πάϑη καί αί ἒξεις τῶν ἀριϑμῶν τῶν ἐν τοῖς ούσιπαϑῶν τε καὶ ἒξεων αἲτια, oῑoν τὸ διπλάσιον, τὸ ἐπίτριτον καὶ ἠμιόλιον»[7] (schol. in Arist., p. 543 и 829). Что пифагорейцы предвосхитили Коперникову систему, это известно; мало того, Коперник знал это обстоятельство, прямо почерпнув свою основную мысль из известного места о Гикете в цицероновских «Quaestionibus acad.» (II, 39) и о Филолае в книге Плутарха «De placitis philosophorum» (кн. Ill, гл. 13). Это древнее и важное учение было отвергнуто потом Аристотелем, который заменил его своим вздором, о чем см. ниже, § 5 (ср. «Мир как воля и представление», II, с. 342 2-го изд.; II, с. 390 3-го изд.). И даже открытия Фурье и Кордье о теплоте в недрах земли служат подтверждением пифагорейскому учению: «Eλεγον δέ Πυϑαγόρειοι πυ ̃ρ εῑναι δϑμιουργικὸν περὶ τὸ μέσον καὶ κέντρον τῆς γῆς τὸ ἀναϑάλπον τὴν γῆν καίξωοποιου̃ν»[8] (schol. in Arist., p. 504). И если в результате именно этих открытий земная кора рассматривается теперь как тонкий слой меж двух сред (атмосферой и горячими расплавленными металлами и металлоидами), соприкосновение которых должно вызвать гибельный для этой коры пожар, то этим подтверждается мнение, что мир в конце концов будет истреблен огнем, – мнение, в котором сходятся все древние философы и которое разделяют также индусы («Lettres édifiantes», изд. 1819 г., т. 7, с. 114). Надо еще отметить также и то обстоятельство, что, как это видно из Аристотеля («Metaphysic», I, 5, р. 986), пифагорейцы именем δέκα άρχαί[9] обозначили как раз то, что у китайцев называется инь и ян.
Я уже намекнул вкратце в своем главном произведении (т. 1, § 52 и т. 2, гл. 39), что метафизику музыки, как она там изложена мною, можно считать истолкованием пифагоровской философии чисел. Здесь я поясню это несколько подробнее, причем, однако, предполагаю только что упомянутые места уже известными читателю. Итак, по нашему воззрению, мелодия выражает все движения воли в том виде, как эта последняя проявляется в человеческом самосознании, т. е. выражает все аффекты, чувства и т. д.; гармония же обозначает последовательную шкалу объективации воли в остальной природе. В этом смысле музыка – вторая действительность, идущая вполне параллельно первой, во всем же прочем – совершенно иного рода и свойства: здесь, следовательно, существует полная аналогия, но ни малейшего сходства. Теперь, музыка как таковая имеет место лишь в нашем слуховом нерве и головном мозгу: извне или в себе (в локковском смысле этого слова) она состоит просто из числовых отношений, а именно прежде всего – по своему количеству, касательно такта, и затем – по своему качеству, касательно ступеней звуковой шкалы, основывающихся на арифметических отношениях колебаний, – иными словами, как в своем ритмическом, так и в своем гармоническом элементе. Отсюда, таким образом, вся сущность мира как в форме микрокосма, так и в форме макрокосма несомненно может быть выражена просто числовыми отношениями и, следовательно, некоторым образом сведена к ним: а если так, то Пифагор был прав, полагая подлинную сущность вещей в числах. Но что же такое числа? Отношения последовательности, возможность которых коренится во времени.
Когда читаешь, что говорится о пифагорейской философии чисел в схолиях к Аристотелю (с. 829 берл. изд.), то можно прийти к мысли, что столь странное и таинственное, граничащее с абсурдом употребление слова λόγος, которым начинается приписываемое Иоанну Евангелие (см. и более ранние подобного рода примеры у Филона), ведет свое начало от пифагорейской философии чисел, именно от значения слова λόγος в арифметическом смысле соотношения чисел, ratio numerica. Ибо такое соотношение, по пифагорейцам, образует сокровеннейшую и неразрушимую сущность всякого существа, т. е. его первый и основной принцип, αρκη; в таком смысле, действительно, о каждой вещи можно сказать: «Eν ἀρχῆ ήν ὀ λόγος»[10]. Обратим здесь внимание, что Аристотель («De anima», I, 1) говорит: «Τα πάϑη λόγοι ἒνυλοι εἰσι», затем: «O μὲν γὰρ λόγος εῑδος τοῦ πράγματος»[11]. При этом приходит также на память λόγος σπερματικός[12] стоиков, к которому я скоро возвращусь.
Ямвлих в своей биографии Пифагора сообщает, что тот получил образование главным образом в Египте, где он прожил от 22-летнего до 56-летнего возраста, и именно от тамошних жрецов. Возвратившись на 56-м году, он намеревался основать нечто вроде жреческого государства на манер египетской храмовой иерархии, но с необходимыми при греческих условиях изменениями: на родине, Самосе, это ему не удалось, зато удалось до известной степени в Кротоне. А так как египетская культура и религия несомненно были родом из Индии, на что указывает среди многого другого культ коровы (Геродот, II, 41), то этим объясняется предписание Пифагора о воздержании от животной пищи, в особенности запрет убивать рогатый скот (Ямвлих. «Жизнь Пифагора», гл. 28, § 150); этим же объясняются и повеление щадить всех животных, его учение о метемпсихозе, его белые одежды, его вечная любовь к таинственности, порождавшая символические изречения и простиравшаяся даже на математические теоремы; далее, основание своего рода жреческой касты со строгой дисциплиной и обширным церемониалом, поклонение солнцу (гл. 35, § 256) и многое другое. От египтян же получил он и свои более важные астрономические основопонятия. Вот почему приоритет учения о кривизне эклиптики оспаривался у него Энопидом, который вместе с ним был в Египте (см. об этом конец 24-й гл. первой книги «Эклог» Стобея с примечанием Герена из Диодора). Вообще же, просматривая собранные Стобеем (особенно кн. I, гл. 25 и сл.) элементарные астрономические понятия всех греческих философов, можно видеть, что все они представляют собою сплошные нелепицы, – за единственным исключением пифагорейских учений, которые обыкновенно оказываются вполне правильными. Что они добыты не собственными силами, а заимствованы из Египта, – в этом нет сомнения.
«Вся сущность мира как в форме микрокосма, так и в форме макрокосма несомненно может быть выражена просто числовыми отношениями и, следовательно, некоторым образом сведена к ним»
Известное запрещение Пифагора употреблять бобы имеет чисто египетское происхождение и является просто заимствованным оттуда предрассудком: по словам Геродота (II, 37), боб почитался в Египте нечистым и был там предметом отвращения, так что жрецы не выносили даже его вида.
Впрочем, о решительном пантеизме в учении Пифагора коротко и ясно свидетельствует одно выражение пифагорейцев, которое сохранилось для нас в сочинении Климента Александрийского «Cohortatio ad gentes», и дорический диалект которого указывает на его подлинность; оно гласит: «Не должно умалчивать также об учениках Пифагора, которые говорят: бог – один, и он не вне миропорядка, как думают иные, а в нем, целый в целом круге, свидетель всякого рождения, сочетание всего – всегда сущий, виновник мировых сил и надо всем небесное светило, всего отец, ум и душа мирового круга, движения вселенной» (см. «Творения Клим. Алекс.», т. 1, с. 118 в «Полемических творениях св. отцов», т. 4, Вюрцбург, 1778). Поистине, при всяком случае полезно убеждаться, что настоящий теизм и иудейство – синонимы.
По Апулею, Пифагор даже будто бы доходил до Индии и учился у самих брахманов (Apulej. «Florida», р. 130, ed. Вір.). Я думаю поэтому, что несомненно высокая мудрость и знание Пифагора состояли не столько в том, что он думал, сколько в том, чему он научился, т. е. были скорее чужие, чем его собственные. Это подтверждается изречением о нем Гераклита (Диоген Лаэрт., кн. VIII, гл. 1, § 5). В противном случае, он записал бы свое учение, чтобы спасти его от гибели, тогда как изученное чужое было защищено от гибели своими истоками.