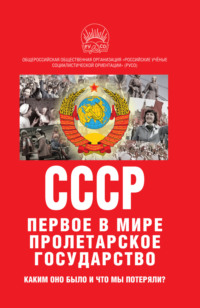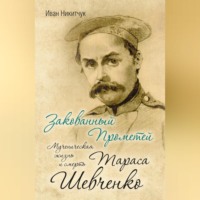Полная версия
Капкан для Александра Сергеевича Пушкина
– Представляю тебе, – обратился поэт к Пущину, – настоятеля Святогорского монастыря отца Иону. А это, батюшка, мой приятель, Иван Иванович Пущин.
Монах продолжал кланяться и извиняться, что, может быть, помешал своим приходом.
– Мне люди сказали, – начал монах извиняющимся голосом, – что в Михайловское приехал господин Пущин. Так я, грешная душа, подумал, что это тот Пущин, что в Кишиневе бригадой командует… Мы давно дружны с ним… А выходит, ошибся я. Простите великодушно…
Пушкин относился к отцу двояко: с одной стороны, с монахом можно было и поговорить, и выпить он был не дурак, а с другой – это был один из соглядатаев, один из тех царских клещей, которые безжалостно вцепились в него.
Пущин никак не мог понять некоторого замешательства хозяина.
Арина Родионовна уже хлопотала насчет чая. В гостиную, помимо самовара, было подано все то, к чему отец Иона был охоч, – варенье, печенье, сухарики и, конечно, ром. Няня разлила чай.
– Садись, отец, – сказал Пушкин, приглашая монаха за стол.
– Благодарствую… Замерз, едучи к вам, погода скверная… Морозец крепчает, – проговорил монах, ощупывая глазами все, что лежало на столе, с аппетитом прихлебывая с блюдечка чай наполовину с ромом. – Надолго ли в наши края? – обратился он к Пущину.
От чая и рома у монаха глазки стали маслянистее. Пушкин снова плеснул ему в чашку рома. Отец Иона еще больше размяк.
– Арина Родионовна, ох, и мастерица ты… Люблю твое варенье… Еще одной чашечкой согрешу с вашего позволенья… А что это, Александр Сергеевич, на столе, никак ваше новое сочинение? – заметил монах, обтирая вспотевший лоб.
– Хотелось бы, чтоб мое было, да не мое. Это Грибоедов написал комедию «Горе от ума», – ответил Пушкин с явной неохотой.
– Как же, слыхал, – оживился монах. – К нашему благочинному недавно сын из Петербурга приезжал, так сказывал. Весьма-с любопытно…
– Отец Иона, вам могу предложить только церковные книги, – с усмешкой посмотрел на монаха Пушкин, – а грибоедовская комедия для вас будет скоромной…
– Ничего, ничего, бог простит, а по должности надобно познакомиться, дабы в случае мог предостеречь овец своих духовных…
– Тогда, если не будете возражать, мы продолжим чтение… – уже совсем веселым голосом сказал Пушкин. – Хотите?
– Сделайте милость!.. Буду вам премного благодарен… Мать Аринушка, налей мне, касатка, еще чашечку чая, а я тебя молитвой отблагодарю.
– Да что вы, батюшка, – более приветливым голосом откликнулась няня, – давайте вашу чашку.
Пушкин продолжил чтение, которое все более захватывало его. Жестикулируя руками, он листал за листом лист.
– «…Когда постранствуешь, воротишься назад, и дым отечества нам сладок и приятен…» – прочитал он, рассмеявшись. – Вот именно!.. А, Пущин?..
Пущин улыбался Пушкину, его чтению и тому, что слышал.
– Ха-ха-ха… – раскатывался хозяин. – «Как станешь представлять к крестишку иль к местечку, ну как не порадеть родному человечку?!»
Отец Иона слушал с большим вниманием, стараясь не пропустить ни одного слова.
Арина Родионовна с благодушным выражением лица продолжала вязать свой чулок. Она не совсем понимала смысла всех этих побасенок, но ее Сашка доволен, ну и слава богу… Няня была сама народная мудрость, без всякого лукавства принимала жизнь во всех ее проявлениях. Может быть, именно поэтому Пушкину всегда было около нее так спокойно…
– «…А о правительстве иной раз так толкуют, что если б кто подслушал их – беда!..» – весело читал Пушкин и покосился на отца Иону: тот плавал в блаженстве.
– Ты посмотри, Александр Сергеевич, какое дарование дал Господь человеку, – восхищенно произнес монах. – Конечно, божественного здесь мало, но очень востро!.. Нянюшка, дай-ка еще черепушечку за здоровье сочинителя Грибоедова.
– Нет! Жанно, мой «Онегин» не идет ни в какое сравнение! – возбужденно крикнул Пушкин. – Только высочайший талант может так писать: ни единого лишнего слова!
И он снова принялся за чтение:
Я князь Григорию и вамФельдфебеля в Вольтеры дам:Он в три шеренги вас построит,А пикнете, так мигом успокоит…Пушкин, всеми силами сдерживая смех радости, уже заканчивал чтение:
Ах, Боже мой, что станет говоритьКнягиня Марья Алексевна?!– Еще раз скажу, что мой «Онегин» ни к черту!.. – воскликнул повторно Пушкин. – Вы уж извините, батюшка, за черта… но не могу сдержаться: ведь режет меня прямо ножом Грибоедов… Вот подарок так подарок! Спасибо, Жан-но! Истинное удовольствие. А как тебе, отец Иона? Не очень скоромно?
– Что вы, Александр Сергеевич, ничуть, даже в семинарии можно читать… – вытирая потное лицо, отвечал монах.
– Ты слышал, Пущин? – рассмеялся Пушкин.
– Как не слышать? Слышу…
Отец Иона тяжеленько поднялся из-за стола и стал прощаться:
– Как не хорошо у вас, а мне пора бы и к дому податься… Благодарствую за угощение: и за духовное, и за телесное… Рад был познакомиться с вами, Иван Иванович… Редко к нам такие гости заявляются… Прощайте, даст бог, может, еще когда-нибудь свидимся… И тебе, нянюшка, особое спасибо за угощение… Александр Сергеевич, а с тобой я хочу на минутку отдельно обмолвиться парой слов, – поманил монах поэта в переднюю.
Пушкин вышел следом за монахом.
– Ты не очень серчай на меня, Александр Сергеевич… Знаю, что я для тебя гость не очень желанный, да что делать… Сам знаешь, не по своей воле… Ты не опасайся меня, я тебе никакого вреда не принесу. Понял? Вот и весь мой сказ… Но ты все же остерегайся: все в их силе и власти… Спасибо тебе и прощай, родимый…
Яким помог монаху одеться и кликнул кучера.
– Ну, вот теперь совсем прощай, Сергеевич… Давай, душа моя, расцелуемся по-хорошему, да не забывай меня, приезжай. А ежели какие-нибудь стишки у тебя найдутся, ты уж захвати…
– Обязательно захвачу, – хохотал Пушкин.
Расцеловавшись, поп вышел, сел в сани и покатил к себе в монастырь.
Пушкин вернулся в дом, подумав: «Повезло мне с попом: душа у него есть, и душа добрая… А мог на его месте и подлец какой-нибудь оказаться».
– Ты уж извини, брат, что я стал причиной этого беспокойства… – сказал Пущин, которому теперь стало все понятным.
– Ах, Жанно, стоит ли об этом… За мной все равно присматривают… С монахом мы ладим… Давай не будем говорить об этой ерунде…
Пущин начал торопиться, было поздно…
– На дорожку неплохо было бы чего-нибудь закусить, – сказал он. – У меня есть еще одна бутылка Клико.
– Так что же ты ее прячешь, тащи на стол… Мамочка, – позвал он няню, – брось нам закусочки.
Друзья сели за стол, хлопнула пробка, заискрилось вино… Все кругом уснуло, а они все говорили и говорили… Прощание затянулось…
– Если бы ты знал, Жанно, – говорил горячо Пушкин, – как мне здесь все осточертело… Не знаю, сколько смогу выдержать такую жизнь… Убегу… Я еще в Одессе думал об этом, Лиза Воронцова помогала моему побегу за границу, но ничего не вышло… А теперь я хочу сыграть на моем аневризме…
– Каком аневризме? – удивился Пущин. – И как давно ты им болеешь?
Пушкин рассмеялся:
– Да нет у меня никакого аневризма. Это я придумал для царя, чтобы он отпустил меня за границу лечиться. Ты же видишь, я здесь погибаю…
– Нет, брат, вряд ли ты их надуешь. К тому же царь на тебя по-прежнему очень сердит. Все твои насмешки ему известны. Я и так удивляюсь его терпению. Был бы Павел, давно бы тебе сидеть в остроге или Сибирь коптить. Надеюсь, тебе известна история лейтенанта Акимова?
– Нет, не помню, расскажи…
– Как и ты, Акимов сочинял эпиграммы, но только на Павла, и наклеил ее на стене Исакия… Его прямо на месте, как говорится, преступления и схватили… Постой, сейчас вспомню эпиграмму:
Се памятник двух царств,Обоим столь приличный, —Основа его мраморна,А верх его кирпичный…– Ты же помнишь, – продолжал Пущин, – строительство Исакия началось при Екатерине, и строили его из мрамора, а закончили при Павле кирпичной кладкой. Так вот, лейтенанту царь повелел отрезать язык и сослать в Сибирь. А твоя дерзость гораздо острее… «Владыка слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда…» За такое можно и на эшафот попасть…
– Ссоримся мы с царем… Но было ведь и другое время… Помнишь, он моей «Деревней» восхищался и выражал благоговение, плешивый черт…
– Подумай, стоит ли по пустякам рисковать своей головой… – с грустью в голосе проговорил Пущин. – Но мне, брат, пора…
– Куда ты так торопишься, Жанно?.. Я отдыхаю с тобой душой, друг мой… Вот ты уедешь… и я снова один… один… – у Пушкина на глазах показались слезы.
– Что делать? Я провел у тебя, поверь мне, самые радостные минуты моей жизни… Но надо ехать… Давай выпьем по последнему бокалу, и в путь…
Часы пробили три… Во дворе уже давно позванивала бубенчиками прозябшая тройка. Ямщик тоже озяб, пытаясь согреться, он ходил вокруг саней, размахивая руками, притопывая ногами, нетерпеливо посматривая на освещенное окно.
Друзья поднялись из-за стола.
– Прощай и будь здоров, Француз… И попусту не безумствуй…
Пушкин помог Пущину надеть его медвежью шубу. Они обнялись… Оба от волнения не могли произнести ни слова, вышли на темное крыльцо. У Пушкина в руках горела свечка. Пущин вскочил в сани… Поэт что-то ему кричал на прощанье, но тот уже не слышал… Зазвенели колокольчик с бубенчиками, и сани исчезли в снежном тумане…
– Прощай, друг, Жанно… – смахивая слезу, прошептал Пушкин.
Пушкин, вернувшись в свою комнату, сел за стол, опустив голову на руки.
– Предки мои поставили свои подписи под избранием царем Романова, а что я, кто я и где я… – с горечью пронеслась в его голове неожиданная мысль…
Горела свеча. В ушах все еще звучал голос Пущина. Душа наполнялась грустью и печалью… Пушкин придвинул к себе чистый лист бумаги, обмакнул в чернила перо и стал быстро писать:
Мой первый друг, мой друг бесценный!И я судьбу благословил,Когда мой двор уединенный,Печальным снегом занесенный,Твой колокольчик огласил…Наступила Масленица. Стало чаще пригревать солнышко, которому радовались даже куры, индейки, гуси, бродившие по двору… Ольга, выглянув в окно, увидела кучера Петра. Он держал в поводу уже оседланную лошадь, которая, как и кучер, щурилась от солнца. Лошадь была неказистой, как и рыжее седло на ней, не раз уже чиненное. Но молодого барина это мало волновало…
Дверь на террасе заскрипела, и на крыльце появился Пушкин, готовый к прогулке. В руках у него хлыст и перчатки.
«Наверное, снова к соседкам в Тригорское», – пронеслось в голове у Ольги. Сердце ее бешено забилось… – Куда же мне? В Сороть, в прорубь?.. И всему бы конец…»
Тем временем молодой барин вскочил в седло и поскакал со двора, махнув Ольге на прощанье рукой.
«Скоро весна!» – подумал Пушкин, ощутив и на себе слепящее солнце. Вокруг она начинала свое торжество. Под копытом лошади он вдруг заметил подснежник. Воздух был удивительно свеж, пахнущий тающим снегом, весенним солнцем и чем-то еще, неведомым, но прекрасным. И сразу начали в душе слагаться стихи:
Только что на проталинках весеннихПоказались ранние цветочки,Как из царства воскового,Из душистой келейки медовойВылетает первая пчелка…Полетела по ранним цветочкамО красной весне разведать:Скоро ль будет гостья дорогая,Скоро ли луга зазеленеют,Распустятся клейкие листочки,Расцветет черемуха душиста?..Пушкин осторожно продвигался вперед: снег держал плохо, лошадь проваливалась, и легко можно было слететь. Глазами, которые слепило солнце, он радостно осмотрелся вокруг и тихонько запел гусарскую песню, незабытую еще с лицейских лет:
Поповна, поповна, поповна моя,Попомни, как ты целовала меня…Тригорское от Михайловского было всего лишь в получасе езды. Пушкин ехал опушкой соснового леса. Вот и граница дедовских владений! Здесь росли три сосны, у которых он любил сидеть и смотреть на красавицу Сороть с ее зелеными лугами и простирающимися за горизонт синими далями. Дальше под снегом дремали древние курганы, а на холме виднелся бедный погост Вороноч. Когда-то он был цветущим и богатым пригородом вольного града Пскова. Теперь здесь ютились лишь несколько полуразваленных избушек и две церквушки…
Распевая песню о поповне, Пушкин въехал во двор три-горских соседей. Передав лошадь казачку, Пушкин вбежал в переднюю дома хозяйки имения. Его радостно встретила Прасковья Александровна:
– Смотрите, кто к нам в гости… А я смотрю утром в окно, а на дворе сорока скачет. Мне и подумалось, что какой-то гость будет… А вы вот и приехали… Очень рада… Проходите… Сейчас блины будут…
Вместе они вошли в большой зал, в котором много лет ничего не менялось. Все тот же большой стол, простые стулья, бронзовые канделябры. На стене тикали часы с огромным маятником. На другой стене висела уже состарившаяся картина «Искушение святого Антония», на которой святой был окружен отвратительными бесами…
Соседняя гостиная тоже была скромно обставлена. Здесь на стене висел портрет Екатерины Великой с буклями, нарумяненными щеками и бесстыжими глазами. Царица когда-то подарила это имение деду Прасковьи Александровны. Здесь же под портретом стояло роялино Тишнера. На этом инструменте Алина часто музицировала, развлекая Пушкина…
Весть разнеслась по дому: Пушкин приехал!.. Дом сразу наполнился шумом и девичьим смехом. Сегодня у хозяйки были не только ее дочери и племянницы, но и соседская молодежь. У Пушкина сразу возникло затруднение: в кого влюбиться, или во всех сразу?
– Александр Сергеевич, – раздался голос Зизи, – мы ждем вас в библиотеке… Где вы… Шевелитесь быстрее…
Пушкин, скорчив страшную рожу, влетел в библиотеку. Зизи расхохоталась… В библиотеке была и ее старшая сестра Анна. Всего несколько месяцев назад Пушкин, в день ее именин, подарил ей стихотворение:
Хотя стишки на имениныНатальи, Софьи, КатериныУже не в моде, может быть,Но я, ваш обожатель верной,Я, в знак послушности примерной,Готов и ими вам служить…Но предаю себя проклятью,Когда я знаю, почемуВас окрестили благодатью…Нет, нет, по мненью моему,И ваша речь, и взор унылой,И ножка, – смею вам сказать, —Все это чрезвычайно мило,Но пагуба, не благодать!..Анна берегла этот стих, как самый дорогой подарок, хотя прекрасно понимала, что это только лишь слова, которые ни к чему не обязывают. Пушкин не замечал завороженного взгляда Анны, все внимание его было обращено на очаровательную Зизи.
– Александр Сергеевич, помогите Анне найти книгу, которую она ищет для вас, – прощебетала Зизи.
– Помогу… – со строгостью в голосе сказал Пушкин, – но вначале вы должны доложить мне, как дела с «Горе от ума». Вы его переписали?..
– Аня заканчивает…
– Клякс много насажали?
– Нет, всего лишь две… Да и тех не видно, я их аккуратно слизала.
– Ладно, тогда помогу… Что за книгу ищите?..
– Всем все бросать… Никаких книг… – раздался голос хозяйки. – Все в зал, блины стынут…
Снова раздался шум, смех, топот ног… Здесь уже был настоящий цветник женской молодежи, вместе с ними отец Герасим, по кличке Шкода, и молодой барон Вревский, сосед тригорских обитательниц.
Высокой стопкой дымились блины. Прасковья Александровна была хлебосольной хозяйкой, любила угостить. На всю округу славились ее наливки, травники, квасы, соленья, варенья… Пушкин шутил, что ее наливки и травники могут и мертвого на ноги поставить…
Батюшка перед трапезой сотворил молитву, благословил брашна, и все дружно принялись за угощение.
– Александр Сергеевич, и вы, батюшка, не отведаете ли наливки или травника? Кто чего хочет? – с радушием в голосе обратилась Прасковья Александровна к гостям.
– Если можно, хозяюшка, – смущаясь, поговорил попик, – мне, как всегда.
– Конечно, батюшка!.. Наливайте сами… Не заставляйте себя угощать… Александр Сергеевич, не в службу, а в дружбу, помоги батюшке.
– С превеликим удовольствием, – со смехом ответил Пушкин.
В рюмках заискрился травник, распространяя приятный запах.
– Ну, что ж, – поднялась хозяйка, – с Масленицей, господа и гости мои!
Все выпили… Чем же закусить? Глаза разбегались от изобилия… Может, балычком янтарным, или белорыбицей, розовой семгой, икрой, грибками?.. А рядом дымилась гора рубленых яиц, белела сметана…
– Как вы думаете, отче, может, повторить? – улыбаясь, спросил Пушкин.
– От вас за милость приму, Александр Сергеевич, – застенчиво улыбаясь, ответил попик.
Отец Шкода любил молодого барина и часто захаживал к нему в гости попить чайку, но и опасался его: иной раз такое богохульство произнесет, что хоть святых выноси…
– Еще травничку или рябиновой испробуем, отец? – спросил Пушкин.
– Благодарствую, но для здоровья лучше травничку, он пользительней…
Обеденные приборы мелькали в руках гостей, раздавался смех и шутки. Ключница Акулина Памфиловна следила за порядком. Хоть блины и таяли прямо на глазах, но дотаять не могли: дворовые девки тут же тащили новую порцию.
– Возьмите горяченьких, – призывала ключница.
Вдруг раздался громкий смех Пушкина:
– Представляю, как мучится святой Антоний, наблюдая наше пиршество!.. – при этом он указал на висящую картину. – Его бесы окружают, а нас блины и травничек. Не знаю, как святой, а мне больше по душе травничек закусывать блинами. Изнемогаю уже, но беру еще… – Захватив сразу два блина, он облил их маслом, густо намазал сметаной и отправил их в рот… Зажмурился и застонал: батюшка, небеса вижу!..
Раздался дружный смех. Даже ключница улыбнулась, хотя она не очень любила михайловского барина из-за его ногтей, за шумное поведение, а из-за стола выйдет, так даже лба не перекрестит. Но шутки его и ее радовали, и она в благодарность часто угощала его моченой антоновкой, которая была ему по вкусу.
Батюшка тоже смотрел на Пушкина со смехом, ожидая чего-нибудь необычного, озорного… Пушкин не заставил себя долго ждать. Попик еще не успел даже налить себе и соседям смородиновки, как Пушкин встал с поднятой рюмкой, начал нараспев:
Настоичка травная,Настоичка тройная,На зелья составная —Удивительная!..Вприсядку при народеТряхнул бы в хороводеПод «Взбранной воеводе —Победительная…»Раздался общий смех. Хозяйка укоризненно посмотрела на Пушкина и погрозила пальчиком.
– Ну, что вы сразу на меня… Я здесь ни при чем… Это стихи Мятлева, и я не виноват, что он в грех вводит отца Георгия…
Отец Георгий от неожиданности поперхнулся, застенчиво улыбаясь, вытирал свою вспотевшую лысину. Гости все смеялись, не придавая особого значения шутке поэта…
– Можно подавать сливки, барыня? – спросила ключница.
– Конечно можно! Неси мороженые сливки, – распорядилась хозяйка.
В те времена сливки выставлялись в деревянном корытце на мороз. Замерзая, они превращались в белую твердую массу. Эту массу скоблили ножом на раскаленный блин, заворачивали его со сливками и блином закусывали. Было очень вкусно.
– Какое блаженство, – поглощая блин со сливками, проговорил Пушкин. – Как вам, отче? – с улыбкой обращался он к попику, уже охмелевшему, в то же время заглядываясь на Зизи…
А Анна Николаевна не сводила своих теплых глаз с поэта. Где-то внутри ее звучала грустная музыка, и она сама себе повторяла: – Нет, он не любит ее…
Пушкин был в своей тарелке, он уже и о Зизи забыл, что-то нашептывая на ушко своей соседке справа, симпатичной, румяной блондинке. «Если мне придется когда-либо ее описывать, скажу, что эта девушка выросла среди яблонь… Она и пахнет антоновкой… – думал поэт. – Но как обхаживает Зизи Борис!.. Губа не дура…»
Ревнивое чувство вдруг взыграло в душе у Пушкина:
– Борис Александрович, отвлекитесь! Ваше здоровье!.. Борис все понял, улыбнулся и поднял рюмку.
Кажется, все объелись блинами. Подошла очередь моченым яблокам, варенью, взвару и квасу. Когда и с этим покончили, начались танцы под музыку Россини и Рамо. Утомившись, Пушкин с Борисом вышли в сад, чтобы пострелять из пистолетов. Пушкин стрелял отменно…
– Что вы здесь за трескотню устроили?!.. – крикнула подошедшая Зизи. – Давайте лучше кататься…
– Божественная Зизи, кататься не получится, – ответил ей Пушкин. – Лошади проваливаются в тающий снег.
– Дети, чай готов!.. Самовар подан…
Уже затемно, после ужина, Пушкин отправился домой. Кругом полыхали костры. Это сельские ребятишки жгли масленицу. Слышались веселые песни…
Только лишь въехал во двор, как Ольга устроила ему бурную сцену ревности. Арина Родионовна все слышала и жалела девку, но в то же время понимала, что, возможно, худшее впереди…
Весна набирала обороты. Под жаркими лучами снег сбегал с окрестных холмов мутными ручьями на заливные луга Сороти. Запели птицы… Легкой дымкой покрылись леса… Земля казалась раем, но Пушкину было грустно в неволе. Вольная жизнь была вот, рядом, она манила его… Ему казалось, что где-то там, вон за тем горизонтом, его ждет счастье… И все же весну он не любил:
…я не люблю весны;Скучна мне оттепель; вонь, грязь – весной я болен;Кровь бродит; чувства, ум тоскою стеснены…Впрочем, и лето его не радовало:
Ох, лето красное! любил бы я тебя,Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи.Ты, все душевные способности губя,Нас мучишь; как поля, мы страждем от засухи;Лишь как бы напоить, да освежить себя —Иной в нас мысли нет…И только осень возбуждала в нем чувства прекрасного, так ярко врывающиеся в его поэтическое дарование:
И с каждой осенью я расцветаю вновь;Здоровью моему полезен русской холод;К привычкам бытия вновь чувствую любовь:Чредой слетает сон, чредой находит голод;Легко и радостно играет в сердце кровь,Желания кипят – я снова счастлив, молод,Я снова жизни полн…Неволя раздражала Пушкина. Временами он беспричинно ссорился с тригорскими девицами, то снова мирился, ухаживая за кем-нибудь из них. К удивлению отца Шкоды, Пушкин заказал панихиду по боярину Георгию. То была годовщина смерти Байрона. Мысль о побеге не оставляла его, он даже заказал дорожные чемоданы и просил приятелей найти для него пятнадцать тысяч денег на дорогу. Наконец, он вцепился в свой аневризм. С этой идеей он решил обратиться к царю с письмом через своего приятеля В. А. Жуковского. Ответ пришел неутешительный. Царь посоветовал больному лечиться в Пскове. В отчаянии он написал еще одно письмо, но теперь Жуковскому, в надежде, что его содержание дойдет и до царя:
«Неожиданная милость Его Величества тронула меня несказанно… Я справился о псковских операторах. Мне указали на некоторого Всеволожского, очень искусного по ветеринарной части и известного в ученом мире по своей книге об лечении лошадей. Несмотря на все это, я решился остаться в Михайловском, тем не менее, чувствуя отеческую снисходительность Его Величества. Боюсь, чтобы медленность мою пользоваться монаршей милостью не почли за небрежение или возмутительное упрямство…»
Ему показались все эти попытки нереальными и даже смешными. В письме другу своему Антону Дельвигу он пишет: «…Идет ли история Карамзина? Где он остановился? Не на избрании ли Романовых? Неблагодарные!.. Шесть Пушкиных подписали избирательную грамоту, да двое руку приложили за неумением писать… А я, грамотный потомок их, что я, где я?..»
Жуковский, который очень любил Пушкина, писал ему в ответ, пытаясь успокоить его буйные порывы: «До сих пор ты тратил свою жизнь с недостойною тебя и оскорбительной для нас расточительностью, тратил и физически, и нравственно. Пора уняться. Она была очень забавной эпиграммой, но должна быть возвышенною поэмою…»
И все же Пушкин продолжал надеяться на побег. Он даже обсуждал его детали с сыном хозяйки Тригорского, Алексеем Вульфом. Нужда заставляла и много трудиться. Пушкин продолжает работать над «Борисом Годуновым», «Онегиным», готовит к изданию книжку своих стихов… Тоску периодически разгоняет, сочиняя письма своим друзьям…
В апреле его посетил еще один лицейский товарищ и друг – барон Антон Дельвиг. Пушкин давно ждал его. И вот, наконец, Дельвиг перед ним. Пушкин радостно обнял друга.
– Ах ты, толстяк, увалень… – притворно ругаясь, – с восхищением говорил он другу. – Как я заждался тебя, уже и надежду почти потерял. Что так задержался?
– Тебе же известно, Француз, – с улыбкой растроганности отвечал Дельвиг, – что мы предполагаем, а бог располагает. Моя поездка в Витебск увенчалась лихорадкой. Провалялся с температурой больше двух недель…
– Как же я рад тебя видеть!.. – глядя на друга, восхищался Пушкин. – Но болезнь пошла тебе на пользу, барон: ты стал еще толще.