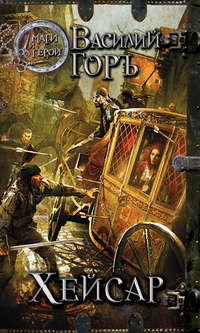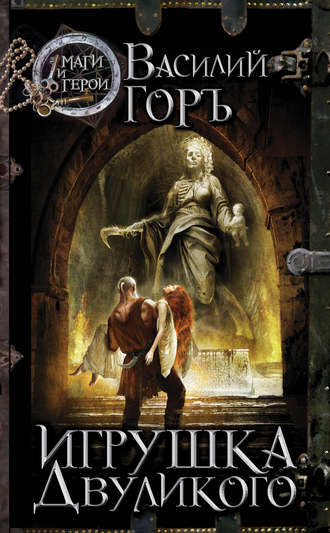
Полная версия
Игрушка Двуликого
– Плачешь? Почему? – не открывая глаз, внезапно спрашивает мама.
– Я не хочу, чтобы ты уходила… – думаю я. Или говорю?
Видимо, все-таки говорю, так как она грустно вздыхает и едва заметно пожимает плечами:
– Все уходят. Кто-то рано, кто-то поздно. От этого никуда не деться…
– Я не хочу!!!
– Никто не хочет. Только вот Богам наше мнение не указ…
Я вскидываю взгляд к потолку и с ненавистью смотрю сквозь потрескавшиеся доски, пытаясь углядеть хотя бы тень тех, кто невесть за что получил право решать, кому жить, а кому умереть.
Мама слабо усмехается:
– Злишься? Зря: они подарили нам жизнь и способность радоваться тому, что нас окружает. Увы, немногие из нас действительно ценят эти дары – мы живем либо прошлым, либо будущим, а о тех, кто нам дорог, вспоминаем только тогда, когда становится слишком поздно…
Внезапно понимаю, что она говорит не так, как обычно, – не подбирает слова, не задыхается через слово и не тянет окончания. Встревоженно вглядываюсь в ее глаза, пытаясь увидеть в них хотя бы намек на то, что ее устами говорят Боги, потом осторожно сжимаю ее руку, лежащую на одеяле, и… просыпаюсь…
Сердце колотилось часто-часто. Так, как будто я присел несколько сотен раз с человеком на плечах. Или взбежал на вершину Ан’гри. Сон не отпускал – перед моими глазами все еще белело изможденное лицо мамы, а в ушах звучали ее последние слова: «…мы живем либо прошлым, либо будущим, а о тех, кто нам дорог, вспоминаем только тогда, когда становится слишком поздно…»
Хотя нет, не звучали – они словно въедались мне в душу. И обостряли чувства, заставляя думать о настоящем.
Как? Да очень просто – в какой-то момент прошлое вдруг ухнуло куда-то далеко-далеко, а я почувствовал Мэй чуть ли не каждой пядью своего тела: ее волосы, щекочущие мое плечо, шею, лежащую на сгибе локтя, ладошку, покоящуюся у меня на груди, локоть, упирающийся в бок. А еще грудь, живот, бедро, голень.
Ощущения были… непривычными: в них был только Свет – радость, нежность, счастье. А вот Тьмы – страха за ее будущее, сомнений в правильности выбранного мною Пути и неуверенности в себе – не было совсем! Поэтому, повернувшись лицом к своей гард’эйт, я, не задумавшись ни на мгновение, легонечко прикоснулся губами к ее губам, дождался, пока она откроет глаза, и еле слышно прошептал:
– Как же здорово, что ты у меня есть…
…Да, страх так и не появился. И ощущения какой-то неправильности – тоже: я ЗНАЛ, что все, что я делаю, – правильно, что Мэй по-настоящему моя и что каждая минута промедления вырывает из оставшегося нам кусочка жизни что-то безумно важное. Поэтому, почти не думая, поцеловал ее в губы. Не прикоснулся, а именно поцеловал – так, как мечтал все время, пока заживали мои раны. И прервал поцелуй только тогда, когда почувствовал, что вот-вот задохнусь.
Отодвинулся. На одно коротенькое мгновение. Перевел дух, увидел ее пьяный от желания взгляд и припал губами к ее груди…
…Ее руки жили своей жизнью – то ласкали мои волосы, шею, плечи и спину подушечками пальцев, то легонечко царапали их же ноготками, то направляли мои губы туда, куда хотелось в этот момент. И эти до безумия чувственные прикосновения сводили меня с ума намного сильнее, чем мое желание.
Впрочем, нет, не так – сводили с ума не прикосновения, а эмоции, которые в это время испытывали мы оба: нежность, желание дарить радость и счастье от ощущения единения душ и тел.
Последнее было настолько сильным, что в какой-то момент я перестал понимать, где заканчиваюсь я и начинается она, и словно растворился в наших общих ощущениях: я чувствовал каждое ее движение, понимал, какие ласки доставляют ей самое сильное удовольствие, знал, чего и когда ей хочется, и отдавал, отдавал, отдавал.
Она делала то же самое – дарила мне тепло, нежность, ласку и себя – от восхитительно-мягких губ и до крошечных пальчиков на ногах. А еще с каждым мгновением все сильнее и сильнее прорастала в мою душу…
…В какой-то момент, почувствовав, что настолько переполнен счастьем, что вот-вот сойду с ума, я открыл глаза и понял, что лежу на спине поперек кровати, положив голову на живот Мэй, накручиваю на палец левой руки огненно-рыжую прядь и таю от прикосновений ее рук к своим волосам.
У меня тут же перехватило дух от безумного, ни с чем не сравнимого счастья, а с губ сорвался то ли всхлип, то ли стон:
– Мэ-э-эй…
– Я тебя люблю… – ласково прикоснувшись к шраму на моей щеке, выдохнула она. – И буду любить до последнего мига нашей жизни…
Удивительно, но даже в этот момент, подумав об ожидающем нас с ней Темном Посмертии и о жалких шести десятинах, оставшихся доухода, я не почувствовал ни малейшего страха – вспомнил недавний сон и внезапно понял, как именно ДОЛЖНО звучать это предложение:
– И я буду любить тебя каждый миг из тех, которые нам остались…
Мэй оценила – вывернулась из-под меня, передвинулась так, чтобы видеть мои глаза, обняла за шею и утвердительно кивнула:
– Да, именно так: каждый миг. До последнего вздоха…
Потом вдруг обиженно выпятила нижнюю губу и сокрушенно вздохнула:
– Только кто нам даст? Из комнаты придется выходить… Хоть иногда…
…Вопреки моим опасениям, ощущение единения душ никуда не делось даже тогда, когдасарти начал просыпаться: стоило мне выбраться из кровати и начать разминаться, как Мэй оказалась рядом. И с явным удовольствием принялась повторять мои движения. Причем чувствовала некоторые ошибки раньше, чем я о них говорил! Чуть позже, когда она, приведя себя в порядок, заплетя магас и одевшись, принялась заваривать себе отвар ясноцвета[10], я стоял с ней рядом и с наслаждением вдыхал терпкий аромат засушенных корешков, понимая, что и зачем она делает!
Правда, для того, чтобы ощущения были острее, требовалось чувствовать ее тело – прикасаться к плечу, спине или бедру, зарываться носом в ее волосы или прижиматься щекой к щеке.
Видимо, она испытывала то же самое, так как, подогрев оставшееся с вечера мясо, уселась ко мне на здоровую ногу. И сообщила, что будет завтракать только так и никак иначе…
…Кормить друг друга, отвлекаясь на ласки и поцелуи, оказалось так здорово, что мы перестали следить за временем и пришли в себя только тогда, когда за дверью раздался визгливый голос гейри[11] Килии:
– Я говорю голосом дари[12] Иттиры! К вам можно?
Вскочив с моей ноги, Мэй кинула взгляд на все еще разобранную кровать и… спокойно пошла к двери. Даже не подумав прикрыть простыню, перемазанную кровью!
Я растерянно посмотрел ей вслед, вскочил на ноги, метнулся к одеялу и, скорее почувствовав, чем увидев жест, запрещающий ее прикрывать, послушно вернулся к столу.
Благодарно улыбнувшись, Мэй толкнула от себя створку, учтиво поздоровалась и сделала шаг в сторону, чтобы впустить Иттиру с помощницами внутрь.
Те вошли. Но вместо того, чтобы уставиться на кровать, вытаращились на Мэй!
Первой пришла в себя дари:
– Да минует его неназываемое, ро’иара![13]
– Да продлятся ваши дни вечно… – с небольшой заминкой подхватила Килия и посмотрела на Мэйнарию с самым настоящим сочувствием!
Тем временем лекарка раздула ноздри, пристально посмотрела на кровать, по-старчески пошамкала губами, потом подошла ко мне и, не говоря ни слова, взялась за мои запястья.
Несколько мгновений тишины – и она попросила меня поприседать.
Я поймал встревоженный взгляд Мэй, ободряюще улыбнулся, но успокоить ее не смог – по ее мнению, приседать мне было еще слишком рано.
Присел. Раз десять. Кожей чувствуя ее страх за меня. Потом снова подставил запястья дари и вдруг понял, что помощницы Иттиры таращились не на лицо Мэйнарии, а на ее лахти, в которую вместо привычной мне белой ленты оказалась вплетена небесно-голубая!
Увидев, что я уставился на ее магас, Мэй забавно сморщила носик и улыбнулась. Уголками губ. Потом шевельнула пальчиками – мол, объясню потом – и встревоженно уставилась на дари Иттиру, недовольно сдвинувшую брови и наморщившую лоб.
«Что с ним?!» – явственно услышал я ее перепуганную мысль.
– Кон’ори’рат…[14] – словно отвечая ей, проворчала лекарка, медленно развернулась к двери и, словно забыв о моем существовании, в сопровождении помощниц поковыляла к выходу.
Угу, как бы не так – поняв, что она собирается уйти, Мэй метнулась ей наперерез и, поймав старуху за руку, заставила ее остановиться:
– Что такое «кон’ори’рат» и как его лечить?
– Это не лечится… – фыркнула старуха, полюбовалась на стремительно бледнеющее лицо моей Половинки и язвительно усмехнулась: – Раньше надо было беспокоиться: в тот день, когда твой майягард только начал тренироваться или когда ты предпочла его собственному роду…
– Не поняла?
– Сейчас ему эти приседания – как быку хворостина…
– То есть Кром… – пропустив мимо ушей странную фразу про род, Мэй многообещающе посмотрела на меня, – здоров?!
– Драться на айге’тта[15] ему пока рановато. Но в моих услугах он уже не нуждается…
– Спасибо, дари! – пылко воскликнула баронесса, шагнула в сторону и склонилась перед лекаркой в поясном поклоне: – Да подарит тебе Барс долгие годы жизни…
– Себя благодари, ури’ш’та…[16] – насмешливо фыркнула Иттира, дернула Мэй за лахти, что-то пробормотала себе под нос, шагнула в дверной проем и, не оборачиваясь, добавила: – А еще его ниер’ва[17]. За то, что он научил Крома выживать!
Что такое «ниер’ва», я не знал, но догадался. Поэтому прикрыл глаза и мысленно поблагодарил Роланда за науку. А потом вдруг увидел его таким, каким он был в тот день, когда я в первый раз в жизни взял в руки чекан…
…Голова[18] был хмур, как предгрозовое небо: его глаза, гневно сверкающие из-под кустистых бровей, казались раскаленными угольками, сжатые губы выглядели как побелевший от времени шрам, а глубокие складки, прорезавшие лоб, напоминали кору древнего дуба.
– Как? – односложно поинтересовался он, и кряжистого рыжебородого мужчину, стоявшего перед ним, затрясло мелкой дрожью.
– В-выпили… Многовато… А тут – они… Жига… э-э-э… пошутил…
– Назвал их девочками?
– Д-да… Ну и… это… шлепнул… пониже спины… – здоровяк развел руками и тяжело вздохнул: – Э-э-эх…
– Значит, Жига начал первым… – мрачно подытожил Круча. – Следовательно, люди Щепки были в своем праве…
– Они сломали Ведру нос и выбили зубы! И теперь он…
– …должен радоваться, что отделался малой кровью… – перебил его Роланд. – А вот тебе радоваться не с чего! И знаешь почему? Потому, что ты – недоумок!!!
Здоровяк набычился, недовольно заворчал, сжал кулаки, подался вперед и вдруг оказался на полу. А Голова, казалось, не шевельнувший и пальцем, оскалился в звериной ухмылке:
– Я оставил тебя старшим! Так?!
– Да…
– Значит, ты обязан был проследить, чтобы Щепка сохранял ясную голову!
– Но ведь лист[19] уже закончен!
– Закончен. Но вы пили не в какой-нибудь захудалой таверне где-нибудь на окраине, а в «Мясном пироге» – на постоялом дворе, в котором останавливаются самые состоятельные купцы! Скажи-ка, кто из них захочет нанять людей, которые не умеют пить, настолько глупы, что ввязываются в драки с городскими стражниками, и при этом не в состоянии защитить даже самих себя?!
Здоровяк потемнел лицом и виновато вздохнул:
– Никто…
– Вот именно! Получается, что ты лишил нас следующего листа… Твой выбор?
Видимо, в последних двух словах был заключен какой-то скрытый смысл, так как рыжебородый приподнялся на локте и изумленно уставился на Голову:
– Круча, ты чего?
– Твой выбор, Кость!
– Да это же обычна…
– Спрашиваю в последний раз – каким будет твой выбор?!
Здоровяк нехорошо оскалился, поднялся с пола, неторопливо отряхнул испачканную одежду, снял с пояса чекан и швырнул его на ближайший стол:
– Я хочу получить заработанные деньги…
– Получишь… Вечером… – презрительно фыркнул Круча, потом посмотрел на меня и взглядом показал на брошенное оружие: – Бери, первач. Теперь он твой…
– За то, что ты тренировался, когда я отлучалась, получишь… Потом… – скользнув ко мне вплотную, тихонечко шепнула Мэй. – А пока расскажи мне о том, кто научил тебя выживать…
Глава 4
Баронесса Мэйнария д’Атерн
Шестой день второй десятины второго травника
То, что Кром думает о своем ниер’ва, я догадалась без всяких слов. И вдруг поняла, что безумно хочу знать все, что можно, о человеке, который делает из мальчишек ТАКИХ мужчин.
Меченый грустно пожал плечами:
– Справедливым, надежным, мудрым…
– А поподробнее?
…Спрашивать, зачем мне это надо, он не стал – почувствовал, что этот вопрос – лишь вершок[20], а корешок – мое желание узнать его, Крома, настолько хорошо, насколько это возможно. Поэтому дождался, пока я перестелю постель и лягу, устроился рядом со мной, зарылся носом в мои волосы и заговорил.
Удивительно, но я явственно видела все, что он рассказывает: его первую встречу с Роландом Кручей и первый лист, показавшийся бесконечным. Выматывающие тренировки, начинающиеся еще до рассвета и заканчивающиеся после заката, и ночные бдения в карауле. Первый дождливый жолтень[21], проведенный на каком-то постоялом дворе неподалеку от границы с Алатом и последовавший за ним бесконечный снежень[22], во время которого он умудрился объездить чуть ли не весь Горгот.
Жить его жизнью было жутковато: там, в прошлом, он смотрел на окружающий мир так, как будто не видел в нем ни одной светлой черты – равнодушно заступал в караул, равнодушно сменялся, равнодушно тратил заработанные деньги на оплату тренировок, постой, еду и одежду. Да, именно в таком порядке: в промежутках между листами он находил мастеров, способных научить его хотя бы одному новому движению, и покупал столько занятий, на сколько хватало денег, ночевал там, где останавливался его десяток, ел для того, чтобы выдерживать нагрузки, а вещи покупал только тогда, когда об этом напоминал Голова. Кстати, о том, что тренироваться можно не у одного Мастера Чекана, а у всех, у кого есть знания, ему подсказал именно Круча. И он же оплатил первую такую тренировку:
–…Собирайся! – в голосе Кручи звенит радость, яркая, как солнце в середине травника. Кром равнодушно оглядывает его с ног до головы и нехотя встает: раз пергамента, в котором отмечаются условия листа, не видать, значит, радость Головы вызвана не заключением нового договора.
– Бери чекан и пошли! – приказывает Роланд и по-дружески тыкает кулаком в плечо.
Кром привычно уворачивается и вопросительно выгибает бровь.
Круча морщится – видимо, еще не привык к тому, что его первач предпочитает молчать. Потом дергает себя за ус и кивает в сторону двери:
– Я договорился с мэтром Орчером, чтобы он на тебя посмотрел. Если ты ему понравишься, то он тебя погоняет десятины три-четыре…
– Зачем? – нехотя спрашивает Меченый.
– Ты – лучший ученик, который у меня когда-либо был… – объясняет Голова. – А мэтр Орчер – один из сильнейших Мастеров Чекана на всем Горготе. И способен дать тебе несравнимо больше меня…
– А лист?
– Пойдешь в следующий. Или через один – тогда, когда Мастер сочтет, что наш с ним договор выполнен…
Кром хмурит брови:
– Это, должно быть, дорого…
– Деньги приходят и уходят… – отмахивается Голова. – А друг, защищающий спину, остается…
Вообще, насколько я поняла, Голова относился к Крому, как к сыну, – учил всему, что знал сам, заставлял привыкать к ответственности и оказывался рядом именно тогда, когда тому требовалась помощь.
…На крыльях носа и лбу стоящего перед Кромом купца – капельки пота. Лицо – багровое, как закатное солнце. На шее – вздувшиеся вены и снующий вверх-вниз кадык. Пальцы правой руки, сжимающие кнутовище, мелко-мелко дрожат, а левая шарит по поясу, раз за разом ощупывая края ремешков, на которых еще недавно болтался кошель.
– Ты проклянешь миг, когда появился на свет! И ту, кто тебя родила…
Кром дергает левый кулак вместе с намотанной на нем косой[23] на себя и вбивает правый в дергающуюся куцую черную бороденку.
Хрустят ломающиеся кости. В глазах купца вспыхивает боль. А через мгновение гаснет. Вместе с сознанием.
– Ты – труп, парень! – шипит дородная баба, стоявшая одесную от чернобородого, тут же набирает в грудь воздуха и начинает верещать на всю рыночную площадь: – Грабят!!! Убивают!!! Стража!!!
Толпа мгновенно раздается в стороны и ощетинивается всем, что попадается под руку.
Меченый равнодушно оглядывается, натыкается взглядом на троицу широких, будто наковальня, дядек, от которых знакомо пахнет кузней, всматривается в их опаленные огнем лица, разводит руками, чтобы показать, что в них нет никакого кошелька, видит, как они сжимают кулаки, и мысленно усмехается – они верят не ему, а тетке!
Со стороны кожевенных рядов доносится стук сапог и отрывистые вопли «дорогу!» и «разойдись!».
Кром поднимает голову, вглядывается в море людских голов, видит несущихся к нему стражников и криво усмехается – поход за бурдюками определенно удался…
В это время толпа, стоящая ошуюю от него, раздается, и перед ним возникает слегка подвыпивший Роланд:
– Купил?
Меченый отрицательно мотает головой и показывает взглядом на лежащее у его ног тело.
Круча мгновенно трезвеет:
– Ты?
Кром кивает. И снова разводит руками, чтобы показать, что не виноват.
Голова прищуривается, одним взглядом охватывает болтающийся на левой кнут, алую полосу, перечеркнувшую лицо, и поворачивается к продолжающей орать тетке:
– Кто! Посмел! Ударить! Моего! Первача?!
Тетка прерывается на полуслове, непонимающе смотрит сначала на Крома, потом на Кручу и багровеет от возмущения:
– Он срезал у мужа кошель, а потом пытался юркнуть в толпу!!!
– Юркнуть?! Он?! – переспрашивает Роланд и начинает хохотать: – Уа-ха-ха! Юркнуть!! В толпу!!!
– Что тут смешного?! – возмущенно шипит тетка. – Я…
Тут к хохоту Кручи присоединяется сначала один из кузнецов, затем какой-то пожилой ворон[24], а через несколько ударов сердца смеется уже вся площадь.
Смех прерывается только тогда, когда к нам пробиваются городские стражники:
– Что тут происходит? Кого грабят и убивают?! Тихо!!!
– Ограбили – его… – дождавшись, пока толпа угомонится, веско роняет Роланд и кивает на бездыханное тело. Потом вытаскивает из-за нагрудника кожу[25] и показывает ее десятнику: – Перед тем как он начал возводить напраслину на моего первача и ни за что ни про что перетянул его кнутом…
У стражника округляются глаза:
– Достопочтенный Гирил? Что это с ним?
– Получил заслуженное наказание и теперь отдыхает…
В этот момент в разговор встревает тетка:
– Ваш-мл-сть, мы с моим мужем шли по площади, когда вот этот парень, – ее палец показывает на Крома, – срезал с его пояса кошель и пытался юркнуть в толпу. Муж пытался его остановить…
– Если бы мой первач пытался юркнуть в толпу, то удар кнута пришелся бы по спине… – перебивает ее Круча. – А у Крома рубец НА ЛИЦЕ! Кроме того, с его ростом прятаться в толпе несусветная глупость!!! Исходя из этого любой здравомыслящий человек придет к выводу, что, возводя напраслину на этого человека, ваш муж совершил преступление, описанное в Строке шестнадцатой четвертого Слова Права Крови. И тем самым в полной мере заслужил то, что получил.
В глазах десятника мелькает сначала растерянность, а потом злорадство:
– Госпожа Тивирия?
– Д-да?
– Кнут, зажатый в руке этого человека, действительно принадлежит вашему мужу?
– Да! То есть нет!!!
– Не-е-ет? – притворно удивляется стражник. – А почему на кнутовище вырезан трезубец?
– Ну… просто…
– Вы лжете еще и мне?! Что ж, вам придется пройти с нами…
А еще Роланд видел Горгот и живущих в нем людей не так, как большинство. И старался научить этому и своего ученика:
…Кром лежит на телеге, раскинув ноющие руки и ноги, смотрит на мерцающее полотнище Пути[26] и тонет в его бесконечной глубине. Мыслей – нет. Вместо них – одна дикая, всепоглощающая усталость.
Где-то на краю сознания – прерывистое дыхание Динты Пера, приказчика их нанимателя, сдуру подставившегося под удар ослопа и теперь пребывающего в блаженном небытии. Чуть дальше – если в том состоянии, в котором он находится, есть какие-то расстояния – пофыркивание чующих кровь лошадей, еле слышные перешептывания возниц и рык Кручи, все еще распекающего Нихха Писклю.
Слов не слышно. Да они и не нужны – щит, которому приказали опекать Меченого, отвлекся на одного из лесовиков и оставил его, Крома, без присмотра. Одного – против пары лесовиков, вооруженных рогатинами и ножами.
Нет, ничего страшного не произошло – эта парочка, явно взявшая в руки оружие не так давно, больше мешала друг другу, чем атаковала, поэтому Кром выстоял против них столько времени, сколько потребовалось Нихху, чтобы добить своего противника и вернуться. Но Роланд, по своему обыкновению отслеживавший все ошибки и промахи своих первачей, пытается выбить из Пискли дурь.
Губы Меченого кривятся в безумной усмешке – эти двое его даже не задели. А вот жилистый черноволосый дядька с окованной сталью дубинкой, лесовик, намеренно оставленный Роландом в живых, чуть не отправил его в чертоги Темной Половины Двуликого. Впрочем, что удивительного – ведь за победу над Кромом лесовику была обещана свобода!
Заново переживая тот поединок, Кром нервно сжимает рукоять лежащего рядом чекана и вдруг понимает, что его натаскивают, как бойцового пса.
В памяти тут же всплывают слова Кручи, сказанные им перед началом поединка:
– Он – мясо[27]. Для любого из нас. А для тебя – ступень. Перешагнешь – сделаешь первый шаг к своей цели. Не сумеешь – уйдешь в небытие…
Кром кривится в улыбке, приподнимается на локте, вглядывается в темноту – туда, куда должны были стащить тела незадачливых грабителей, – и вздрагивает от прикосновения широкой, как лопата, ладони:
– Сумел. Молодец. Я тобой горжусь…
Молодцом он себя не чувствует, так как в голове почти безостановочно звенят слова из Изумрудной скрижали: «Тот, кто отворил кровь единожды, подобен скакуну, вступившему на тонкий лед: любое движение, кроме шага назад, – суть путь в Небытие! Тот, кто отворил кровь дважды и более, воистину проклят: он никогда не найдет пути к Вседержителю…»
Видимо, его молчание достаточно красноречиво, так как Роланд усаживается рядом и негромко хмыкает:
– Переживаешь, что взял его жизнь? Зря! Он сам сделал свой выбор, решив, что ради наживы можно грабить, ссильничать и убивать… Кстати, оттуда, из кустов, видны не только дорога и телеги, но и мы – люди, защищающие чужое добро. Поэтому можешь считать, что он убил себя сам. В тот момент, когда выбежал на опушку с оружием в руках…
Мысль интересная. Даже очень – получается, что вины Крома в смерти лесовика почти нет… Или все-таки есть?
Круча вздыхает, с хрустом сжимает кулаки и продолжает. Так тихо, как будто беседует сам с собой:
– Таких уродов – много. И не только среди лесовиков. Они пользуются силой, для того чтобы забирать себе то, что им не принадлежит – деньги, здоровье, жизни…
– Жизни? – восклицает Меченый и успокаивается. Окончательно и сразу. Так как эта короткая фраза переворачивает его представление о Будущем…
…Жить его жизнью было безумно интересно, но в какой-то момент, почувствовав, что он ответит на любой мой вопрос, я заставила себя остановиться: там, в глубине его памяти, жила боль. И выпускать ее на свободу я не собиралась.
Перевести его внимание на себя удалось без особого труда – стоило мне начать накручивать на палец лахти, как Кром наткнулся взглядом на синюю ленточку и слегка помрачнел:
– Мэй, скажи, пожалуйста, почему Иттира и ее помощницы так странно смотрели на твой магас?
– Помнишь, Тарваз рассказывал нам про то, как Аютэ вошла в род?
Он утвердительно кивнул:
– Сбежала из своегосарти, явилась к нашему и спела Ваге свою Песнь, стоя перед воротами…[28]