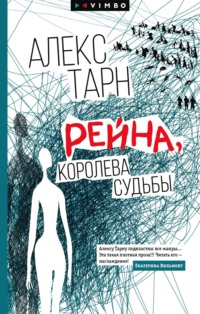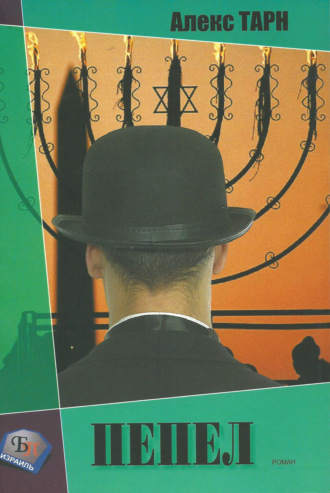
Полная версия
Пепел
Ага, как же, разбежалась… Пора было приниматься за дело. Он вынул из кабины пластиковую бутылку с водой и выронил, да так неловко, что она выскользнула из рук и покатилась под збейдовский тендер. Берл полез под машину, по дороге припоминая все известные ему арабские ругательства. Набралось много. Когда он распрямился, белобрысый уже ушел, а Збейди стоял прямо над ним.
– Что надо? – Араб смерил Берла подозрительным взглядом.
– Вот… – Берл показал ему бутылку и расплылся в самой идиотской улыбке, на какую только был способен. Збейди пожал плечами и отвернулся.
Ну и чудненько… Берл вернулся в кабину и тронул тойоту с места. По его расчетам, Збейди должен был немедленно покинуть Дааб. Он уже получил то, ради чего приехал. А раз так, то разумнее поджидать его теперь на каком-нибудь безлюдном участке единственной дороги, ведущей из поселка в глубь Синая. Где-нибудь уже в горах, но еще до египетского блокпоста, миновать который в таком бедуинском камуфляже у Берла не имелось ни единого шанса. Хотелось также надеяться, что скромный подарочек, оставленный Берлом на передней полуоси исузу, не слетит от сумасшедшей тряски по этой чертовой грунтовке. Проехав через Дааб, Берл быстро пересек широкую в этом месте прибрежную равнину и въехал в ущелье. Солнце уже стояло высоко, и рассчитывать на тень не приходилось. Найдя подходящий участок с поворотом покруче, Берл развернул тендер и остановился на обочине, молясь только о том, чтобы Збейди не заставил его ждать слишком долго.
Свидетель № 1Хорошо, Ваша честь, я постараюсь вспомнить. Нет, это было уже после Рождества… думаю, где-то в середине января. Ну да, конечно, что это я так путаюсь – ведь Йозеф сам рассказал мне потом. Его арестовали в январе тридцать девятого и сразу направили к нам, в Дахау. Он был совсем свеженький – из тех, кто еще не научился ходить своими ногами. Что? Нет, Ваша честь, это я так фигурально выражаюсь. В лагере очень трудно выжить, особенно поначалу: слишком много правил, которые надо твердо знать и выполнять автоматически, а иначе вас ждут крупные неприятности. То есть не вас, Ваша честь, а вообще.
Извините меня за путаную речь – мне ведь не так часто приходится свидетельствовать на столь высоком суде. Так вот, с этими правилами сущая беда, настолько их много. Поэтому свежие заключенные и погибали чаще других. Это ведь только так говорится, Ваша честь, что человек учится на собственных ошибках. В лагере никто вам такой возможности не дает. Ошибка в лагере означает смерть, так что приходится учиться на чужих промахах. И тут уже как повезет: можешь оказаться учеником, а можешь… хе-хе… и учебным пособием. Известно, что любое дело вначале сильно зависит от везения, а лагерь, Ваша честь, в особенности, можете мне поверить! Вот такие гвоздики с колечками…
Но все-таки на одном везении далеко не уедешь. Даже самый удачливый человек не может вечно ходить в дождь между капель. Нужно еще и уметь учиться… как бы это вам объяснить?.. Это ведь не уроки в школе, где учитель неделями втолковывает всем вместе и каждому по отдельности таблицу умножения, долдоня по двадцать раз одно и то же, пока самый тупой не запомнит. Тут, в лагере, – другое. Тут надо многое уметь… ловить взгляды, видеть самые неприметные жесты, слышать самый быстрый шепоток, чувствовать запах чужого страха под густой вонью своего собственного. Тут никто повторять не станет, не усвоил – пеняй на себя.
Йозеф, слава богу, умел учиться. Но и повезло ему, конечно, тоже. Я имею в виду – повезло, что я взял его под свою опеку. Скажу без лишней скромности – я к тому времени на лагерных порядках собаку съел. Два с лишним года – не шутка. Сам-то я, Ваша честь, оказался в Дахау после Берлинской Олимпиады. По собственной глупости, должен сказать. На время Игр нацисты разрешили заново открыть в городе гей-бары, ну я и купился. А потом Игры кончились, иностранцы разъехались, а я, дурак, остался у гестапо на карандаше. Такие вот гвоздики с колечками… Что? Аа-а… это у меня присловье такое, Ваша честь.
Евреев в Дахау было сначала не так много – больше всё коммунисты, цыгане, криминал, ну и мы, стосемидесятипятники… Конечно, объясню, пожалуйста. Стосемидесятипятниками нас называли по сто семьдесят пятой статье, запрещающей гомосексуализм. Закон-то давний… правда, до Гитлера особо не применявшийся. Но в тридцать пятом году нацисты к нему такие зубы приделали, что просто гвоздики с колечками… Обнял кого-нибудь – просто обнял, Ваша честь, и ничего другого – шесть месяцев лагеря. И это ведь только так говорилось «шесть месяцев»… – на самом деле сажали до полного, как они говорили, «излечения». А лечили нацисты по-разному. Вернее, даже не лечили, а искали способы лечения, потому что не получалось. Били, накачивали тестостероном, кастрировали… – ага, и такое бывало. Водили к женщинам – проверять, вылечился ли. Был у них дом с цыганками, еврейками и проститутками из криминала – тоже заключенными, понятное дело.
Нет, Ваша честь, меня не лечили, Бог миловал. Понимаете, в подопытные кролики брали только здоровых, для чистоты эксперимента. А я как-то всегда ухитрялся держаться ровно посередке: всегда был среди тех, кто еще годен для работы, но уже не подходит для качественного опыта. Это, скажу я вам, целое искусство. Хе-хе… Сначала я симулировал малярию, а потом и впрямь ею заболел – смешно, правда? У нас там минимум треть от малярии тряслась. Туберкулез, тиф… короче, хватало. Но и болеть надо умеючи – так, чтобы не свалиться с той самой золотой серединной тропки: и в лунатики не попасть, и на опыты не загреметь. Лунатики? Хе-хе… Это, Ваша честь, такие доходяги, которые уже совсем на грани. Их можно по походке отличить: идут как во сне, еле ноги передвигают, и взгляд у них такой… ну… будто глаза смотрят внутрь, а внутри ничего нету, кроме луны, и это их ужасно удивляет. Таких даже эсэсовцы не трогали, потому что – зачем? Ага, так и ходили. А чего не походить, это ведь недолго. Два дня. Максимум – три. А потом в крематорий.
Как вы понимаете, в лунатики можно было загреметь очень даже просто – ведь лекарств никаких не было… иногда доставали всякими длинными путями, но это редкость, да и опасно. А к эсэсовскому врачу идти не стоило совсем, лучше уж в лунатики – та же верная смерть, только не так больно. В общем, трудно там было удержаться, но я умел, причем умел хорошо. Странно, что приходится гордиться такими вещами. Ну и везение, конечно, и здоровье хорошее, спасибо папе с мамой. Так и тянул до сорок третьего. Это ж сколько получается?.. Семь лет с лишним. Нет, не освободили, Ваша честь. Забили палками, насмерть. Но тут я тоже изловчился: быстро потерял сознание и умер относительно легко. Да-да, я помню, что мы тут говорим о Йозефе, а не обо мне. Я просто подумал, что эта информация вам тоже не повредит – для общего, так сказать, фона. Чтобы вы поняли, как много Йозеф должен был узнать, чтобы выжить в первый свой месяц в Дахау.
Я уже говорил, что евреи в больших количествах в лагере долго не появлялись. Но после Хрустальной ночи как прорвало. Во второй половине ноября и в несколько последующих месяцев их присылали помногу, сотнями за раз, целыми транспортами. А лагерь-то был не резиновый. Ну сколько туда влезало, даже если считать все дополнительные площадки и внешние команды? Пять тысяч? Шесть? Что-то в этом духе… но уж никак не больше десяти. И вот представьте себе, что уже людей во все блоки набили столько, что не то что лечь – встать негде… а этих все везут и везут, везут и везут… Уже и дышать нечем, а их все везут. Ну как к ним после этого прикажете относиться? Я, честно говоря, евреев и так не очень-то жаловал, а тут просто невзлюбил. Ведь большинство болезней в лагере происходят от тесноты, Ваша честь. Теснота, если хотите знать, является главнейшим врагом человечества. Там, где одно человеческое существо об другое трется, неизбежно заводится какая-нибудь зараза: то ли бактерия, то ли вошь. Вши-то точно от трения межчеловеческого происходят, это я сам видел, гвоздики с колечками…
В общем, все их невзлюбили, потому что несли они с собой тесноту, то есть большое неудобство для любого лагерного жителя. И поначалу мы даже радовались, когда наши бонзы – старшие по блокам и капо рабочих команд – над ними измывались. Зачем? Ну как зачем… Чтобы поскорее извести и таким образом вернуть тесноту хотя бы к прежнему уровню, о котором уже в декабре вспоминали как не о тесноте даже, а наоборот, как об удивительном просторе. Я сказал «поначалу радовались», оттого что потом отношение изменилось. Во-первых, привыкли и к новой тесноте. Вы не представляете, Ваша честь, к каким вещам способен привыкнуть человек… да… А во-вторых, поняли, что вернуть прежние условия не удастся – ведь на место умерших немедленно привозили новых. А у нас, у стосемидесятипятников, имелась еще одна причина – думаю, самая важная.
Дело в том, Ваша честь, что до приезда евреев мы были самой униженной кастой в лагере – хуже коммунистов. Нацисты придумали систему – как различать, кто за что сидит. Вообще-то заключенные носили одинаковые полосатые куртки. Но на куртках, прямо на сердце, был нашит треугольник определенного цвета. Политическим, понятно, отвели красный, уголовникам – зеленый, цыгане носили коричневый, антисоциальные элементы – черный… ну и так далее. Так вот, в лагерной грязи треугольники часто замызгивались так, что никто не мог отличить, допустим, «коричневого» цыгана от «красного» коммуниста или «синего» эмигранта от «пурпурного» свидетеля Иеговы. Ведь все треугольники были одного и того же размера. И заключенным это очень нравилось, потому что чем лагерная толпа больше и чем меньше ты из нее выделяешься, тем лучше твои шансы на выживание, чисто статистически.
Я сказал, что все треугольники были одинаковы. Все, кроме нашего, розового. Треугольник стосемидесятипятников отличался своими заметно большими размерами. Как ни замызгивай, все равно любой эсэсовец уверенно выделит тебя издалека из общей толпы. И только с появлением большого количества евреев с шестиугольной звездой на груди различие в величине треугольника перестало так сильно бросаться в глаза. Наше несладкое место заняли другие, еще более отверженные, чем мы. До этого ведь вопрос стоял так: большой треугольник или маленький? Теперь же он, вопрос то есть, изменился самым коренным образом и звучал совершенно иначе: треугольник или звезда? Таким образом мы, стосемидесятипятники, как бы вернулись в общую массу, и это не могло не облегчить нашу жизнь.
Более того, чем ближе к тебе находился человек со звездой, тем больше было шансов, что палец блокфюрера или вахтмана укажет именно на него, а не тебя. Если вы, Ваша честь, представите себе работу громоотвода, то именно так это выглядело и в нашем случае, и поэтому те, кто посмышленее и поопытнее, стали обзаводиться такими еврейскими громоотводами. Ну и я тоже решил не отставать. Йозеф был моим вторым по счету громоотводом; первый, адвокат из Штутгарта, продержался менее трех недель. Да-да, Ваша честь, с адвокатом у меня вышла промашка… хе-хе… и на старуху бывает проруха. Так-то, на глаз, он казался вполне крепеньким, хотя и немолодым. Кто ж мог знать, что у него окажется больное сердце?
После первого неудачного опыта я понял, что надо искать себе кого-нибудь помоложе, ну и… Только я не хотел бы, чтобы у вас создалось впечатление, будто я каким-то некрасивым образом использовал своих евреев. Это абсолютно не так, Ваша честь. Речь тут шла исключительно о взаимовыгодном союзе, можно даже сказать, симбиозе. Я честно вносил свою лепту, обучая новичков лагерной премудрости, и еще неизвестно, кто кому в этой ситуации был полезнее. В конце концов, это ведь не я решил, что у них на груди должна быть именно звезда, а не треугольник, как у всех нормальных людей!
Йозеф выглядел совсем мальчиком… нежным мальчиком восемнадцати лет. Наверное, в качестве громоотвода больше подошел бы кто-нибудь погрубее, но уж больно он был красив, прямо Иосиф Прекрасный, да и только. Не подумайте, что между нами возникли какие-то отношения – клянусь вам, нет!.. Боже упаси… да и как это в лагере… но на воле я бы непременно в него влюбился, и не я один. Хе-хе… В общем, вышел я искать громоотвод, а нашел… нет, Ваша честь, не любовь… А впрочем, черт с ним, почему бы не назвать вещи своими именами? Конечно, это была безнадежная любовь, без шансов на то, что когда-нибудь, где-нибудь… Но, Ваша честь, разве можно наказывать за фантазии, когда они надежно похоронены глубоко-глубоко в голове? За фантазии о чистом и светлом чувстве между двумя людьми, особенно когда фантазируешь тайком, крепко закрыв глаза, чтобы не выдать себя даже взглядом… и лежа при этом на кишащих вшами тифозных нарах концлагерного блока, среди крысиного визга и сумасшедшего бормотания лунатиков? Разве это преступление, Ваша честь?.. Можно мне воды?
Спасибо. Это было абсолютно бескорыстное чувство, Ваша честь. Наша любовь всегда бескорыстна… я имею в виду нас, хе-хе… стосемидесятипятников. У нас нету этого вечного перетягивания каната: кто из двоих главнее?.. кто кого подомнет?.. и так далее. Мы просто… да-да, извините, я опять отклонился от темы. Вернее, не так уж я и отклонился, потому что хотел сказать, что очень к нему привязался, к Йозефу. Если бы можно было поменяться с ним нашивками, я бы, поверьте, сделал это с радостью. Я был бы просто счастлив, Ваша честь, навесить на себя его проклятую звезду, а ему отдать свой проклятый треугольник. Точно так же, как я был счастлив, когда его освободили, хотя и знал, что мы расстаемся вернее всего навсегда.
Он был нежным мальчиком из профессорской семьи. Папаша у него ходил в героях Первой мировой войны, дважды раненный, весь в медальках и орденах. Всю жизнь гордился тем, что защищал родную Германию. Это-то их и сгубило. Когда в тридцать третьем году нацисты провели закон о гражданской службе, всех неарийцев стали выкидывать с работы и из университетов тоже. Йозефов папаша, не то физик, не то химик, изобретал что-то взрывающее… а может, стреляющее… короче, деталей я не помню. Помогал своей стране вооружаться, чтобы смыть пятно Версальского позора. Хе-хе…
Йозеф говорил, что мать сразу сказала, что надо бежать, пока еще есть такая возможность. Но папаша отказался. Он, видите ли, верил в здравый смысл и духовную чистоту немецкого народа, старый козел… извините, Ваша честь, сорвалось… Тем более вскоре выяснилось, что выгоняют не всех. Ветераны войны продолжали работать на прежних местах, даже если им не выпало такое счастье родиться арийцами. Конечно, папаша узрел в этом лишнее подтверждение своей правоты. Из университета его все-таки выперли, правда, только через три года, после того как нацисты отменили последние поблажки для неарийцев. Но и тут господин профессор отказывался верить своим глазам. Не зря у нас говорят: «Самый упрямый мул – еврейский». Так вот и получилось, что, когда он наконец взялся за ум, бежать было некуда. Во-первых, власти требовали заплатить огромный налог, а денежек-то после двух лет безработицы уже не хватало. А во-вторых, никто теперь не давал виз. Ни Америка, ни Англия, ни Швейцария, ни Франция… – никто. Никто, Ваша честь, не хотел моего прекрасного Йозефа. Кроме, конечно, меня и нацистов.
Когда их арестовывали, отец сказал Йозефу, чтобы тот не волновался – он позвонит своему фронтовому другу в Берлин, и все устроится. «Не бойся, Йоселе, нас сразу же освободят! Это ошибка!» – кричал он вслед своему сыну, пока гестаповец не стукнул его хорошенько по глупой профессорской плеши. Нет, Ваша честь, я не злорадствую, мне просто очень обидно за моего бедного несмышленого Йозефа. Мальчик так верил отцу… прямо-таки боготворил его. «Вот увидишь, Карузо», – говорил он мне… Карузо – это моя кличка, Ваша честь. Дело в том, что я просто обожал петь, а слухом меня Бог обидел, причем очень сильно, вот и прозвали меня так – Карузо. Смешно, правда?
«Вот увидишь, Карузо, – говорил он мне, – не пройдет и недели, как я отсюда выйду. Знал бы ты, какие у папы друзья в Берлине!»
Ага, как же… для того, чтобы выйти оттуда, требовались как минимум две вещи: деньги и виза, а у них не было ни того, ни другого. Я, конечно, изо всех сил старался поддерживать парня, особенно когда он уже разобрал, что к чему, и начал падать духом. «Не вешай носа, Йос! – так я его называл – Йос. – Папаша вот-вот вызволит тебя из этой вонючей ямы, и ты должен беречь себя, чтобы целехоньким предстать пред его светлые очи!»
Хе-хе… гвоздики с колечками…
Беречь… легко сказать, Ваша честь, да трудно сделать. Работы у нас тогда были такие: щебеночный карьер, осушка канав и слесарная мастерская. В карьере он бы долго не протянул, это точно. Тут молодой, не молодой – не столь важно; все решает ухватка. Если умеешь за тачку ухватиться – протянешь несколько месяцев, а там, глядишь, и соскочишь на какую другую работенку. А не умеешь – пиши пропало. В полдня руки-ноги собьешь, а назавтра уже спотыкаться начинаешь, тачки ронять… а где тачку уронил, там и капо с палкой, и вахтман с хлыстом. Бывало, люди за неделю до лунатиков доходили. И паренек мой дошел бы… с его-то руками да за тачку… хе-хе…
Канавы тоже не годились. Там хоть и попроще, но уж больно нездорово: вечно мокрый с головы до ног, а одежды-то никакой. Вот тебе и малярия с пневмонией… Так или иначе, оставалась одна слесарка, гвоздики с колечками. Тоже несладко – напильником по четырнадцать часов скрежетать, но, по крайней мере, в тепле и под крышей. Правда, была нешуточная опасность и в слесарке – там особенно следили за нормой. Не выработал норму – карцер. А карцер, Ваша честь, – это такое место, рядом с которым лагерный барак кажется президентскими апартаментами в отеле «Эксельсиор». Каменный мешок, где сидели без света, без воздуха и без еды, зато в цепях и в собственных экскрементах. Только самые крепкие, выйдя оттуда, не сваливались в лунатики. Нет, сам я не попадал. Я ж вам говорил, что в лагере выживает только тот, кто учится на чужих ошибках.
Лично я работал в то время в этой самой слесарке и с нормой справлялся легко: так уж получилось, что есть у меня эта ловкость в руках, хватка то есть. А до этого и с тачкой управлялся лучше всех, скажу не хвастаясь. Так что если приналечь, то можно было и за себя отработать, и Йозефу немного помочь. В общем, стал я добиваться, чтобы его в слесарку определили. Да… ну и… добился. Как? А как чего-то добиваются в лагере? Платишь кому надо и получаешь что надо. Что? Чем платишь?.. Ну… Конечно, мог бы я вам сейчас сказать, что были у меня, как и у всякого опытного заключенного, притырены тут и там всякие заначки на черный день. И ведь действительно были заначки: и денежек немного, и сигареты – лагерная валюта, и лекарства кое-какие, и даже ампула морфия, выменянная у лазаретского медбрата за губную гармошку. Мог бы сказать… – но как соврать столь высокому суду, Ваша честь? Всех моих сокровищ не хватило бы и на половину требуемой взятки. Так что пришлось мне заплатить иначе.
У стосемидесятипятника, Ваша честь, всегда есть чем заплатить, если очень-очень надо… А я так хотел, чтобы паренек уцелел. «Ничего, Карузо, – сказал я себе, – потерпи, а потом, на небесах, этот грех зачтется тебе как благо».
Самое смешное, что так оно и случилось. Натерпеться-то я натерпелся, это да… но по-настоящему опытный человек… Что? Что такое по-настоящему опытный? Ну, это просто, Ваша честь. По-настоящему – это значит в науке выживания. Любой другой опыт – не настоящий. Я так думаю. Вернее, так меня учит мой собственный настоящий опыт, гвоздики с колечками. Так вот, по-настоящему опытный человек знает, что он действительно сотворен из глины, но подобен Богу.
А практически это означает такую интересную вещь. Неважно, что делают с твоим телом, потому что это всего-навсего глина. Пусть себе мнут и давят как угодно, лишь бы не отрывали от него куски, лишь бы потом можно было аккуратненько слепить себя заново. Но пока они это делают с глиной, ты должен обязательно помнить о своей богоподобности. А Бог, он ведь что сделал? Сотворил этот мир, будь он прок… извините, Ваша честь, это меня куда-то не туда занесло. Я всего-то и хотел сказать, что в такие моменты нужно сотворить себе отдельный мир, но не такой, где гнут и корежат твою глину, а другой, замечательно красивый и очень удобный для повседневной человеческой жизни… и просто жить в нем, вот и все.
А терпение всегда идет в зачет, особенно бескорыстное… впрочем, это я уже говорил. Кто-то может сказать, что во всем этом деле была у меня своя, личная корысть, но видит Бог, это не так. Конечно, потом, когда мы начали вместе работать бок о бок в лагерной слесарке, я был счастлив, и поэтому вроде бы действительно выходит корысть, но, с другой стороны, это и не корысть вовсе – ведь я был счастлив только тем, что уберег его, Йозефа. Хотя опять же… в общем, не знаю, не знаю… совсем я с этим запутался, но вы-то уж точно разберетесь, правда ведь, Ваша честь? Потому что если не вы то кто же тогда разберется?
А счастье было. Да, да. Это кажется невероятным, но я был необыкновенно счастлив в той темной слесарке посреди концлагеря, вжикая напильником рядом с моим мальчуганом. Я спас его от смерти с самого начала. Я спасал его от смерти каждый божий день, проводя по единственно верным тропинкам, подбрасывая недостающие до нормы детали, запихивая в спасительную толпу в моменты опасности. Я был его проводником в аду, как Вергилий для Данте. Грех сказать, но временами я благодарил Бога за то, что он устроил мне эту удивительную декорацию: Гитлера, нацистов, Дахау, Хрустальную ночь и упрямого папашу-профессора. Ведь не случись этого, не случилось бы и самых счастливых недель в моей жизни.
Сначала я смотрел на него, на его чистый профиль, склоненный над тисками, на его тонкие руки, сжимающие напильник, на пушистые ресницы, забавно вздрагивающие при каждом усилии. Я смотрел осторожно, вовремя отворачиваясь, чтобы не смутить и не причинить ему лишнего неудобства. А потом мне уже не требовалось смотреть прямо – я видел его и так, самым краешком глаза, боковым зрением, как собака. Я видел его даже затылком, спиной, локтем – чем угодно. Скорее всего, я видел его всем своим существом, Ваша честь, всем телом… по-моему, недавно я назвал тело глиной? – так вот, я видел его всей своей глиной, вернее, его присутствие делало мою глину зрячей. Зрячей и счастливой, да простит меня Ваша честь за неуместную высокопарность. Просто я не знаю, как выразить это по-другому.
Он говорил: «Карузо, без тебя я не выжил бы здесь и дня». И это была сущая правда – как сказать «солнце восходит на востоке» или «эсэсовец не бывает добрым». Но тем не менее, я попадал прямиком на седьмое небо, стоило мне только услышать от него эти слова. Йозеф часто рассказывал мне о своей семье, о том, кем он хотел стать и где учиться, пока не выяснилось, что все эти планы не подходят для нынешней Германии. Папаша толкал его на свою химию или физику, в Геттингенский университет, где сам он когда-то учился у каких-то знаменитостей. А мальчика тянуло к музыке, но он и думать не мог ослушаться своего упрямого родителя. Йозеф как-то сказал мне, что обрадовался запрету на поступление в университеты, потому что избавился таким образом от нелюбимого дела. Ну не смешно ли, Ваша честь? Если я чему-то и научился у Йозефа, так это чисто еврейской манере находить положительные стороны даже в самой что ни на есть черноте.
Зато папашу-профессора я прямо-таки возненавидел. Думаю, эта ненависть происходила от ревности – уж больно Йозеф его боготворил. Часто я не мог удержаться и отпускал разные ядовитые замечания по папашиному адресу, на что Йозеф всякий раз произносил пылкую защитительную речь. При этом он частенько так увлекался, что прекращал работать, и мне приходилось следить в три глаза, чтобы капо, не дай бог, не заметил. Каждый такой перерыв добавлял мне седых волос и пару дополнительных уголков к моей и без того большой норме, но овчинка стоила выделки. Как он был красив, мой Иосиф Прекрасный! Как сладко лился его голос прямиком в мое замирающее от любви сердце!
Я упомянул, что он был музыкален необыкновенно… а может, и обыкновенно – не знаю, не мне судить. Мне все в нем казалось необыкновенным. Одно я могу вам сказать, Ваша честь: Йозеф мог напеть любую арию, что из Верди, что из Вагнера, а «Лоэнгрина» так и просто знал наизусть – всю оперу, до последнего звука. Каждое утро в слесарке начиналось у нас с того, что мы выбирали сегодняшнюю программу: оперу, состав исполнителей и даже дирижера. Ведь Йозеф мог изображать разные манеры и темп исполнения. А потом он тихонько напевал мне замечательные спектакли. Ах, Ваша честь! Любой скажет вам, что Дахау был адом на земле. Но для меня он стал раем небесным… можно ли такое представить?
А потом настал день, когда все кончилось. Видимо, Господь посчитал, что невозможно давать одному человеку так много счастья в течение столь долгого времени. Но я на Него за это не в обиде, Ваша честь: в конце концов, что-то должно ведь достаться и остальному человечеству. Да и вообще, я очень благодарен Всевышнему за небольшую сделку, которую мы с Ним заключили немного позже. Но обо всем по порядку. В тот день мы выбрали «Лоэнгрина». Там есть такое чудесная сцена из третьего действия, когда Лоэнгрин и Эльза остаются вдвоем, и он поет: