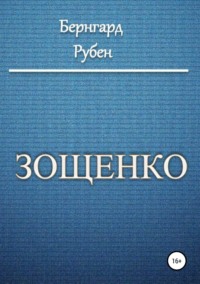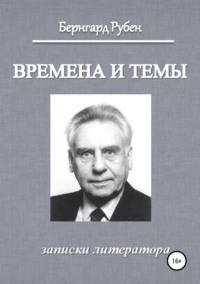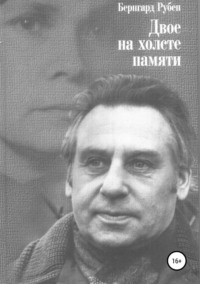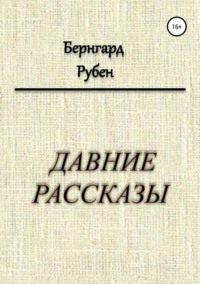Полная версия
Казакевич

Своевольный поэт
1
Война… Она ворвалась солнечным воскресным днем, наиболее продолжительном в году, и день этот вмиг померк, почернел. Позднее и само число 22 июня 1941 года приобрело от перелома жизни всего народа роковое начертание, отлилось в историческую дату, которую не позабыл ни один переживший ее человек. Но масштаб происходившей военной катастрофы не был известен жителям огромной части СССР, удаленной от смертоносного фронта, разверзшегося во весь западный поперечник страны. И вначале очень многие полагали, что это внезапное нападение Германии всего лишь проба сил, «наглая провокация», которая моментально разобьется о несокрушимый гранит нашей военной мощи, будет отражена нашей доблестной Красной Армией, а мы, как и провозглашал товарищ Сталин, ответим тройным ударом на удар поджигателей войны. Тем временем лавина вражеского вторжения уже покрывала города и села Украины, Белоруссии, Прибалтики с оставшимся там на месте населением, а беженцев с их скарбом несла впереди наступающих танков, под обстрелом хозяйничавших в небе фашистских самолетов…
От этих трагических месяцев до Великой Победы война длилась долгих четыре года с тяжкими отступлениями вплоть до самой Москвы, а затем и до Волги, с последующими кровопролитными наступлениями и многомиллионными людскими потерями, какие понес за этот срок весь народ. А среди тех фронтовиков, кто вернулся потом к мирной жизни, был и довоенный еврейский поэт, которого эта война превратила в русского писателя, прославившегося своими произведениями о ней. И которому, чтобы попасть в окопы и там, испытав в полной мере свою судьбу, увидеть и пережить все то, о чем он должен будет рассказать, пришлось отчаянно пробиваться сквозь целую череду людских преград на этом его заветном пути.
Великая Отечественная война застала Эммануила Казакевича в возрасте двадцати восьми лет, отцом двоих малолетних детей и профессиональным поэтом, писавшим по-еврейски, на идиш. Он жил тогда с семьей под Москвой, снимая маленькую квартирку в Песках, покинув совсем Биробиджан в 1937 году. В тот тридцать седьмой, также ставший приснопамятным годом, он приехал в Москву повидать сестру и знакомых. С собой он захватил написанную на биробиджанском материале пьесу в стихах «Молоко и мед», чтобы показать ее известным еврейским писателям, жившим в Москве. И здесь получил известие, что возвращаться ему домой сейчас нельзя. Что означало такое предупреждение, объяснять в те времена не требовалось: по стране катилась своя внутренняя война – лавина разоблачений и арестов «врагов народа». Он остался покуда в Москве и вызвал жену с детьми, у них только что родилась вторая дочь.
Приехавшая жена рассказала о переименовании улицы, названной в честь его покойного отца. Эммануил с болью представил себе, как сбивают дорогие таблички с домов, поднявшихся на их глазах, при их участии. Эти таблички были не только его сыновней гордостью, они уже воплощали историю, стали памятью и признанием совершенных дел – его отец и также умершая здесь, в суровом краю, мать, и он сам прибыли в Биробиджан с родной Украины в период первоначального освоения этого глубинного таежного района, выделенного для еврейской национальной автономии на Дальнем Востоке. В то время громко разворачивалась индустриализация страны, и переселенцы из Украины, Белоруссии и даже из заграничной дали не задумывались, что обретение ими национального «очага», «обетованной земли» производится, как и все в стране Советов, по-большевистски, указкой человечьего перста. И Казакевич-старший, который был в «мирное время», до первой мировой войны, учителем еврейской благотворительной школы для бедных детей, став затем на Украине после Октября видным публицистом и литературным критиком, полностью посвятил себя национальному и культурному развитию своего народа, получившего еще во время Февральской революции все возможности полноправной жизни. Он вступил в коммунистическую партию. Его назначили редактором республиканской еврейской газеты и литературного журнала, позднее – директором республиканского еврейского театра. И по прибытии из столичного Харькова на Дальний Восток он возглавил здешнюю газету «Биробиджанер Штерн».
А приехавший ранее, первым из их семьи, восемнадцатилетний Эммануил с энтузиазмом корчевал тайгу, возводил на этой земле деревянные постройки, работал в газете, организовывал один из колхозов, заведовал местным радиовещанием, затем смело сделался начальником строительства капитального Дома культуры, наконец, создавал и был первым директором Биробиджанского театра. И – в любом амплуа – писал и переводил на идиш стихи, более всего Гейне с немецкого и Маяковского. Их дом, их семья были в этой глухомани, как ранее в столичном Харькове, бастионом культуры. И там, в Биробиджане, у Эммануила вышла первая книга стихов, с которой он вступил в Союз писателей.
Но – волны катившихся по стране массовых репрессий достигали во все края, и медвежьи углы тоже кипели в идеологической борьбе по примеру столиц, особливо там, где жители отличались грамотностью и эмоциональностью. В тот год везде яростно разоблачали прошлых и нынешних троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев, искали и находили шпионов, диверсантов, вредителей, изощренно препятствующих построению социализма в СССР.
В Биробиджане тогда пустили слух, что Эммануил Казакевич, этот комсомольский поэт, яркая фигура среди колонистов и активный устроитель здешней жизни, еще вчера член областного комитета комсомола, арестован при переходе маньчжурской границы как японский шпион. Подобный слух мог исходить из самих «органов» для подержания нужного им общественного угара. Но одновременно такая версия помогла, наверное, уцелеть ее объекту – ведь коли он пойман и арестован, так и ловить более не надо, по крайней мере, в других концах страны… При невиданном количественном захвате и пропускной способности советской мясорубки в ее работе недоставало немецкого педантизма и скрупулезности.
Какой-то срок, чтобы не ставить под удар родных и знакомых в Москве, его семья переждала в белорусской деревне, а сам он появлялся то там, то тут, вроде бы и не прятался, но был настороже и не задерживался долго на одном месте. Потом, через год, когда Сталин убрал (сперва переместил, затем и расстрелял) своего преданнейшего подручного, наркома внутренних дел Ежова, исполнившего заданную ему роль, (и тем самым указал народу на виновника очередного «перегиба»), когда схлынул девятый вал репрессий и даже был дан слегка задний ход, Эммануил перевез семью под Москву.
Теперь он полностью ушел в творчество. Писал свои стихи, переводил классику и современных поэтов. Он продолжал писать на еврейском языке. И переводил на еврейский язык. Был тесно связан с московским еврейским издательством. Вскоре у него издали здесь новую книгу стихов. Одновременно он закончил комедию в стихах, начатую в Биробиджане. К нему приехал режиссер Биробиджанского театра, обеими руками ухватился за его пьесу и поставил по ней спектакль, шедший с большим успехом. Затем он взялся за трагедию о Колумбе, в которой впервые стал переходить на русский язык, и начал киносценарий о Моцарте, тоже по-русски. Он писал много. Занимался в библиотеке, изучая материалы и разрабатывая сюжеты. Ему надо было утвердить себя в литературе и кормить целую семью. А накануне войны, в мае сорок первого, был подписан в печать его роман в стихах на идиш «Шолом и Хаве», вышедший в свет, когда сам автор уже воевал на дальних подступах к Москве.
Известие о войне Эммануил воспринял с мгновенно охватившим его чувством личной причастности к грянувшему событию. Его давно притягивала армия. Еще в Биробиджане он носил армейские галифе, военный френч с ремнями, суконную фуражку с красноармейской звездочкой, зимой надевал шинель. Большинство биробиджанских знакомых, написавших о нем впоследствии свои воспоминания, так и запомнили его «человеком в шинели». Одежда эта еще сильнее подчеркивала его высокий рост и худобу. Он походил на комиссара времен гражданской войны и военного коммунизма, держал в себе этот образ. Но когда он на какой-то момент снимал очки, его близорукие глаза поражали своей добротой, незащищенностью, открытой доверчивостью, и он напоминал уже не сурового комиссара, а скорее Пьера Безухова.
В армии однако он не служил – из-за сильной близорукости его признали начисто негодным к воинской службе и выдали «белый билет». Эммануил был огорчен, уязвлен: мужчина должен все познать, через все пройти, закалить себя в испытаниях. Его привлекала военная героика. И претило даже в чем-то почувствовать себя изгоем. Он пытался уйти в армию с помощью отца, главного редактора биробиджанской газеты и члена бюро обкома партии. Не получилось, хотя отец и просил за него. Не помогло и письменное обращение в Москву, к наркому обороны.
По той же причине он остался в стороне от всеобщей мобилизации, когда началась война. Но как только ударил набат московского народного ополчения, он ушел на фронт добровольцем. Он был членом Союза советских писателей, и его зачислили в писательскую роту. Сборы его состояли главным образом в покупке запасных очков. Он рассовал их по карманам, в вещмешок и явился для отправки. Шли самые первые недели войны, и еще не угасла надежда, что фашистский натиск скоро будет пресечен ответными ударами наших войск.
В эти уже ополченские недели Эммануил был полон энергии и оптимизма. На фоне преобладавшей вокруг твердой убежденности в быстрой победе он какой-то частью своего сознания воспринял ураган войны как вихрь, выхвативший его из четырехлетней писательской замкнутости, из трагедии в стихах о Колумбе, из сценария о Моцарте и Сальери, чтоб вновь унести в живую жизнь с ее тревогами, горем, надеждами. Всей взметнувшейся душой, после тягостных лет всеобщих подозрений и разоблачений, не только после собственного творческого отъединения, он остро ощутил свою сиюминутную нужность, локтевую связь со всеми людьми страны.
Характер его требовал действия и самоиспытания. Эммануил писал жене: «В строю и в учебе чувствую себя, как прирожденный солдат. Обо мне не беспокойся – я здоров, как бык!» Чуть бравируя, он давал понять, что не растерялся без домашней опеки. Тут же с уверенностью стойкого бойца он предписывал жене сохранять полное самообладание – «врага мы разобьем обязательно». Как сладко, как замечательно было иметь право на это мы! И знать подлинного врага. «…Какие бы ни были на первых порах поражения и отступления – верь в победу, как верю в это я».
В июле и августе его письма жене звучали как реляции о собственном бодром настроении. Находясь с ополчением некоторое время во втором эшелоне, он сообщал о полученной перед строем благодарности; о том, что чувствует себя прекрасно, здоров, крепок, уверен в себе; что моральное состояние хорошее у всех, они едут в поезде, а запевалой – он; что боец он, оказывается, хороший и что коллектив у них спаянный; они все время в переходах…
В ополченской дивизии было полно ученых, литераторов, художников, архитекторов. Все они были брошены навстречу мощным клиньям рвущихся к Москве немецких войск, нисколько не считаясь с их явной обреченностью на гибель. Эммануил увидел много милых людей, сугубо штатских, вырванных из семьи, из своих кабинетов и мастерских, из привычного городского быта, неприспособленных к армейскому строю и полевой жизни, но старавшихся изо всех сил исполнить свои ратные обязанности. В этих условиях люди узнавались по-настоящему. И сам себя он узнавал заново и оставался доволен. В середине августа в письме жене он подвел свои первые военные итоги: «Здесь сила воли подвергается решительному испытанию. Пока я испытание выдержал. В активе у меня – две благодарности и – правда, несбывшееся – назначение комсоргом роты. Для начала неплохо». В нем все еще бродила комсомольская юность. Назначение комсоргом не сбылось из-за перевода в отряд при особом отделе армии. Там он впервые подумал сделаться разведчиком. Но его вместе с товарищем по писательской роте опять передали в ополченскую дивизию, не в свою, в соседнюю.
Во всех этих военных пертурбациях Эммануил не забывал о своих покинутых сочинениях. Счет времени в жизни, как писал он жене, пошел у них на минуты и секунды, и в свободную секунду он думал о Колумбе, надеялся, что скоро сможет вновь взяться за него, старого друга…
В ополчении Эммануил был восхищен медсестрой Шурой Девяткиной. В ней поразительно слились солдатская храбрость и женская прелесть. Как в библейской героине. Он писал о ней стихи, пророчил орден Красной Звезды. Потерял он ее из виду, когда записался на курсы младших лейтенантов. Но не забыл, думал о ней.
Немцы прорывались к Москве, и обучаться курсантам приходилось под обстрелами, отходя с рубежа на рубеж. Под Гжатском курсантскую бригаду ввели в бой. На их полк обрушилась авиация, затем все живое конала немецкая артиллерия. Вслед за этим истреблением с дистанции вплотную надвинулась вражеская пехота, на ходу просекая пространство перед собой сплошным пулеметным и автоматным огнем. Эммануил стрелял из своего раскаленного «Максима» до последнего патрона в последней ленте, потом отбивался гранатами и винтовкой. Он не желал смириться перед силой фашистов. О себе он помнил одно-единственное – то, что для него, Эмы Казакевича, ни при каких обстоятельствах, даже в беспамятстве тяжелого ранения, немецкого – гитлеровского – плена нет.
Полк, как и вся бригада, был разбит и рассеян. Уцелевшие курсанты, так и не ставшие офицерами, отступали и выходили из окружения мелкими группами. Эммануил взял на себя командование взводом. Потом эти группы вновь объединялись на дорогах, уже в тылу подошедших свежих войск.
Вместо фронтовой курсантской бригады на ходу формировалась запасная, вбиравшая в себя остатки разбитых частей. Бригада расположилась в городе Владимире. Вид у Эммануила был измученный. Он хромал: сильная потертость ноги перешла в воспаление. Но – никаких жалоб, чтобы, упаси господь, ни у кого и мысли не возникло, что он, недавний ополченец, не годен к строю или, еще того хуже, будто сам метит куда-нибудь «в обоз». Недели три он побыл полковым библиотекарем. Прикосновение к разрозненным случайным книжкам, собранным местными властями для бойцов, было для него живительно.
В этот момент судьба причудливо для армейских условий свела его с командиром их полка Захаром Петровичем Выдриганом.
2
Их быстро притянуло друг к другу. Началось со стихотворного рапорта, в котором рядовой Казакевич докладывал командиру полка о том, что он – несчастный библиотекарь, ни в каком подразделении не значится в списках, и нет до него дела ни начальнику продовольственно-фуражной службы, ни обозно-вещевой, и никак он не добьется поменять свои рваные обмотки… Выдриган прочел рапорт вслух, улыбаясь и покручивая ус. За весь свой долгий командирский путь ему не приходилось получать среди деловых бумаг ничего подобного. Обращение в стихах свидетельствовало о человеке культурном и остроумном. А Выдриган ценил в людях и то, и другое. Конечно, подать командиру полка это сочинение мог только насквозь штатский человек. Однако шпилька насчет живой души, не занесенной где-то в список и оттого как бы и не существующей в полку, вставлена была точно.
Выдриган приказал вызвать библиотекаря. На первый взгляд он показался ему «доходягой»: тощий, прихрамывает. Но держался этот очкарик с достоинством и сразу заявил, что библиотека для него временное занятие, пока болит нога. Они разговорились. Выдриган, проучившийся всего три года в церковно-приходской школе и всю жизнь тянувшийся к знаниям, быстро определил, что перед ним ходячая энциклопедия. Заинтересовало, что ополченец, оказывается, писатель. Правда, никаких его произведений он не читал, да и фамилии не слыхивал, но членский билет подтверждал – перед ним писатель. Кроме интереса, ополченец вызвал и симпатию. Командир полка знал, что к тому времени, к концу сорок первого года, остатки ополченцев – кто не погиб летом и осенью – были уже отозваны из армии или распределены там применительно к их гражданским профессиям. А этот никуда из строя не просился и был намерен снова попасть на передовую, где уже хватанул лиха. Выяснилось, к тому же, что они земляки, оба с родной Украины.
Через несколько дней пришел приказ образовать в полку роту краткосрочной подготовки младших лейтенантов, и Выдриган зачислил туда грамотея-ополченца, несмотря на его близорукость. И Эммануил Казакевич стал офицером.
О своих служебных успехах он сообщил жене: «Итак, как видишь, я “в чинах”. В Москве обязательно сфотографируюсь и пошлю тебе фотографию – пусть хоть детки посмотрят на своего папу-лейтенанта». Ирония прикрыла его удовлетворение произошедшим.
В это время у него определился последующий этап в его службе вместе с Выдриганом, и он откровенно-приподнято написал своему другу по ополчению Д. Данину, с которым сошелся в писательской роте: «Я адъютант командира части, и притом – командира прекрасного, прошедшего огонь и воду, подполковника, достойного быть генералом».
…Спустя годы (война давно прошла, и уже умер Казакевич) генерал-майор в отставке Выдриган расскажет в телевизионной передаче об их с Казакевичем службе и дружбе: «Эммануил Генрихович понравился мне своей прямотой и смелым суждением о жизни и армейских порядках. В его суждениях я увидел своего единомышленника. Предложил ему стать моим адъютантом, и он согласился».
Было очевидно, что с точки зрения «сбегать-принести, подать-убрать, смекнуть-устроить» – в такие адъютанты Казакевич не годился. У него была собственная мерка обязанностей, и свою должность в полку он считал весьма ответственной. Выдриган все это понял сразу, но ему как раз и хотелось иметь рядом такого помощника. Потому-то он и взял его к себе вместо прежнего. Они оба нашли друг друга.
В качестве адъютанта Эммануил полагал себя сподвижником командира полка. По этой связи считал, что его слово неизбежно воспринимается, как слово самого командира, и постарался, чтобы слово это было дельное и умное. Он взял под свой надзор полковой пищеблок, следя, чтобы скудный тыловой паек без утечки доходил до курсантов; беспокоился, чтоб после долгих занятий в поле, на морозе, они могли бы отогреться и просушиться; заботился и о пище духовной – чтоб люди знали сводки с фронта, зажигательные статьи писателей, трогающие душу стихи.
Он не дергал командира полка по каждому мелкому поводу. Тем паче – не докладывал ему на офицеров. Но если оказывалось необходимым где-либо утвердить справедливость, пресечь корысть, навести должный порядок, Эммануил в открытую направлял туда его строгость и власть.
Зная, что Выдриган полюбил его, он тем более не давал себе поблажек. К тому же он, находясь на виду, чувствовал, что за его поступками пристально следят многие сослуживцы. Все это оттачивало поведение. Когда в полку проводились командирские занятия – в открытом поле, зимой, часов по восемь кряду, да по тыловому обеспечению без валенок и полушубков – Эммануил всегда вставал в общий офицерский строй, не пользуясь специфическими привилегиями адъютантов. Он проявлял свое достоинство не в сомнительных привилегиях, но в том, чтобы быть, как все, и быть самим собой, не превращать должность в тепленькое местечко, оставаться офицером, командиром. И Выдриган ценил это в нем. А Эммануил увидел в Выдригане героя – отважного разведчика первой мировой войны, командира партизанского отряда войны Гражданской, наконец, командира полка Великой Отечественной, который вывел свой полк из окружения, был тяжело ранен разрывной пулей, настоял вопреки медицинской комиссии на своем возвращении в армию. Вот на чем замешивались их отношения.
От тех времен сохранились фотографии. На одном из снимков они стоят: командир полка – с мушкетерской бородкой и подкрученными кверху стрелками усов, уверенно-спокойный, ладный, влитый в давно привычную гимнастерку, коверкотовую, с тремя шпалами в петлицах, а рядом подтянутой струной – его адъютант, тонкий, старательно заправленный, в очках, со щетиной усиков, в гимнастерке заметно попроще и с одним всего-то «кубарьком» в петличке, зато в самом что ни на есть добротном, старшего комсостава, довоенном ремне с латунной массивной пряжкой-звездой, подаренном ему Выдриганом, а сам командир полка подпоясан обыкновенным офицерским ремнем, какой выдавали и старшим, и младшим. Оба – в фуражках, и фуражка по-юношески худоватого младшего лейтенанта толику возвышается над более фасонистой фуражкой подполковника. На другом снимке, сделанном тогда же, они поменялись местами, сели и взяты по грудь. Напряжение первого снимка ушло; на мушкетерском лице Выдригана (бритая лысина скрыта головным убором, как париком) – легкая полуулыбка, словно струящаяся по щегольски закрученным кверху кончикам усов, а Эммануил, чуть-чуть за ним, улыбается широко, радостно – видны белая полоса его зубов и веселые глаза из-за круглых очков. Атос и д’Артаньян из Шуи. (Там находился их полк в то время.)
При всем поэтическом складе натуры Эммануил обладал трезвым практическим умом и организаторской хваткой – когда дело касалось общественных интересов или нужно было помочь кому-то другому, не себе. Сказывался жизненный опыт, полученный им еще в Биробиджане, где ему приходилось решать самые фантастические, как всем представлялось, хозяйственные и организаторские задачи. Для него армейская жизнь не замыкалась наглухо в рамках уставов. Ничего страшного не было в том, чтобы в самые морозы при задержке их запасному полку зимнего обмундирования воспользоваться для утепления штатской одеждой, имевшейся на станционном складе. Он разведал этот склад – там хранились вещи мобилизованных на фронт. Конечно, в полку несколько нарушалась форма одежды. Но ведь только на время и для того, чтобы люди не заболели и можно было продолжать полным ходом боевую учебу, готовить для фронта пополнение…
Он взваливал на себя заботы, которые прямо к нему не относились, подставляя свои плечи там, где бездеятельные или нерасторопные начальники оставались в стороне. И если требовалось «пробить» что-либо необходимое для полка, Выдриган надеялся на своего Эму, как он его стал называть.
Эммануил жил внутренне покойно в те три-четыре месяца, когда, став офицером и адъютантом, входил в свою новую должность и положение. Только что произошло, наконец, долгожданное радостное событие на фронте – крепким контрударом отшибли немцев от столицы. Вспыхнула уверенность, что тяжкие военные поражения остались позади, в страшном и горестном сорок первом. Новый год начинался с важных перемен и в ходе войны, и в его собственной военной судьбе.
Он энергично вырабатывал в себе армейского командира. Образец был у него перед глазами, и все стороны полковой жизни были открыты перед ним. Так предоставилась ему давно желанная возможность приобщиться по-настоящему к армейской службе. И Эммануил полностью обрел себя в ней, слился с нею. Все это помогло ему преодолеть то отупение, которое охватило его, необученного ополченца, после трагедии октябрьско-ноябрьского отступления к Москве.
И здесь, в полку, он прошел столь понадобившийся ему потом практический «курс военных наук». Запасная бригада готовила для фронта сержантов, и он был удовлетворен приносимой им пользой: «Чувствую я себя хорошо и искренне доволен, что я в армии и посильно помогаю борьбе с противником. Особенно это чувство укрепилось во мне после пятидневного пребывания в Москве… Нет, каждый мыслящий человек должен теперь быть в армии, если только он не женщина и не баба», – написал Эммануил жене.
Служебные обязанности, не умножай он их собственной активностью, оставляли бы ему немало свободного времени. Но это не соответствовало его характеру и понятию долга, а кроме того, свободное время сейчас тяготило бы его и по тому вдруг обозначившемуся внутреннему разладу, который касался самого сокровенного – его литературного творчества. Потребность творчества не исчезла, нет, и тоска по своим писаньям, оборванным войной, накатывалась на него с неподвластной силой. Возникали и новые замыслы. Но внезапно у него пропала всегдашняя способность писать: сама эта способность уверенного воплощения мысли в слове как бы отделилась от него, отлетела, быть может, куда-то недалеко и ненадолго, но ее не было. И полковой круговорот с утра до ночи помогал ему уживаться с самим собой.
В то же время, захваченный новыми для него обязанностями, Эммануил постоянно вспоминал своих товарищей по ополчению, переживал их судьбу, пытался осмыслить происшедшее. При отступлении и потом, в запасной бригаде, он мучительно тревожился о Шуре Девяткиной – не попала ли она в руки немцев, самоотверженно спасая раненых. Он неотвязно думал о ней, спрашивал о ней в письмах своего друга по ополчению. «Ты не можешь даже представить себе, как она не выходит у меня из головы. Мне тяжело представить себе, что произошло, если она оказалась в плену. Это почти как любовь, и, конечно, не любовь, а сожаление. И еще что-то», – писал он из Шуи Д. Данину. Но разве всегда точно определишь свои чувства? В глубине души Эммануил верил, что он пророк. И поскольку он предсказывал ей орден, он долго искал ее имя во всех газетах, прежде всего в списках награжденных. Не находил. И все-таки надеялся на свое пророчество, на то, что она жива.