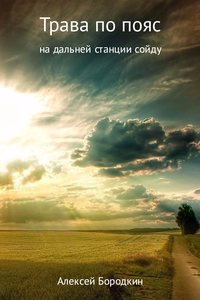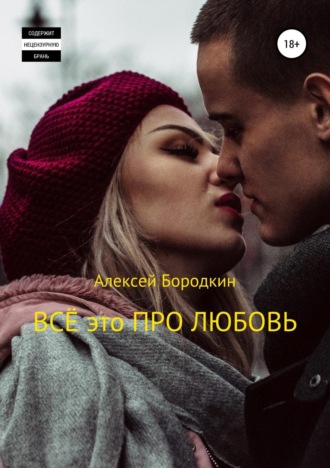
Полная версия
Всё это про любовь
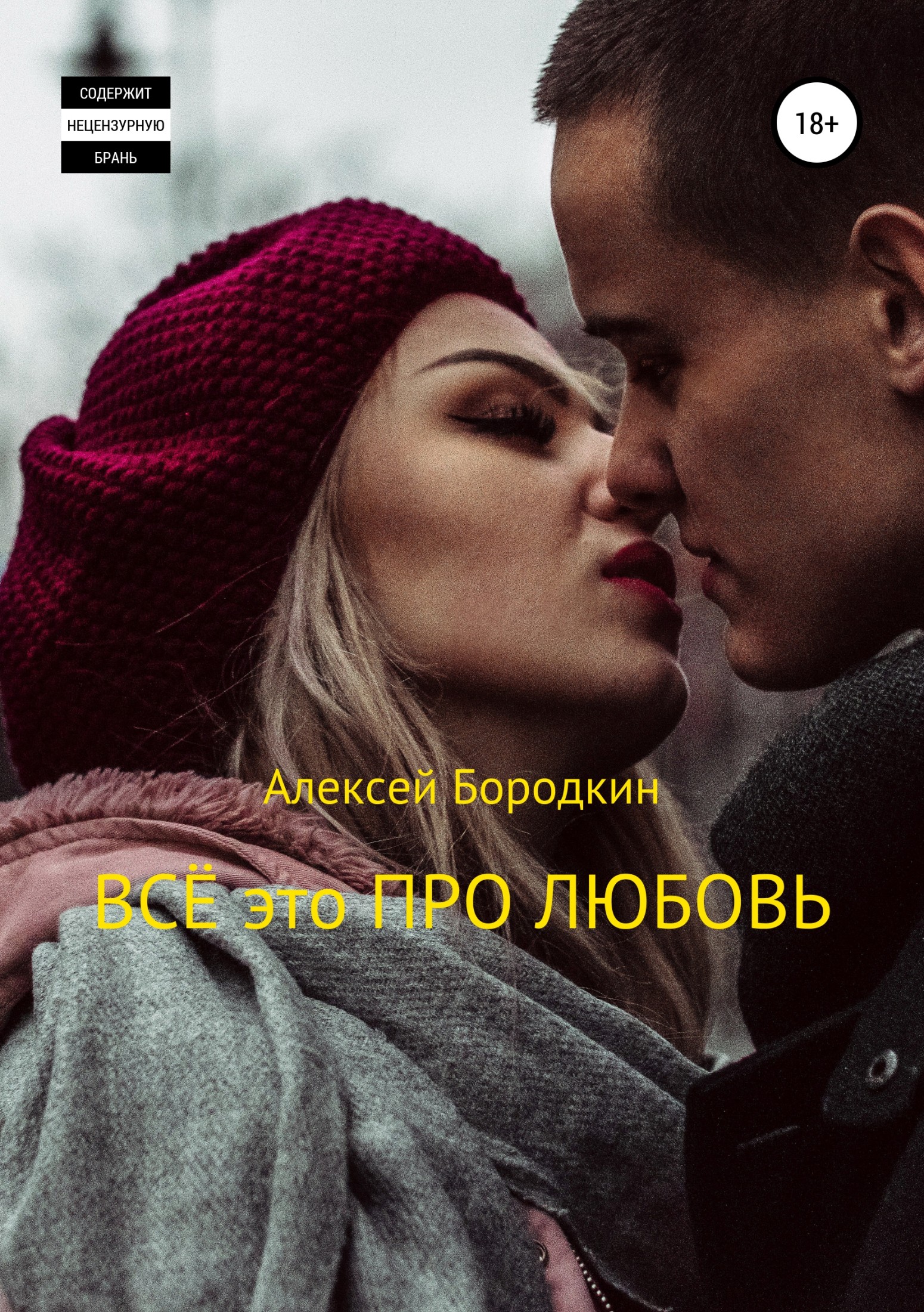
Понедельник начинается в субботу. Это у Стругацких. У меня понедельник начинается в понедельник. В девять утра. Если точнее – в девять пятнадцать. В это время в кабинет входит шеф. Помятый и недовольный. Пожеванный, но не проглоченный. Выплюнутый.
"Не пил, не курил, всю ночь спал в своей собственной постели, – шутит один юморист, описывая третью мужскую "молодость". – При этом выглядишь, будто всю ночь веселился, пил и безобразничал с молоденькими кокотками".
Шеф бросает на стол пятничный номер. Обводит коллег мудрым (так ему кажется) взором.
– О чём думаешь, Фролова?
Это он мне.
О чём я думаю? Думаю о том, что в моей квартире идёт ремонт. Работают два чудесных парня. Они северные корейцы. Да-да, самые настоящие корейцы. И очень даже северные. Одного зовут Май (приемлемая форма от Мун-Как-то-Там), второго – Июнь (производная от Юнь-Плюс-Ещё-Что-то).
Удобно: Май-Июнь.
В моей квартире уже полгода весна. И немножко лета.
Мастера они замечательные, квалифицированные, рукастые, однако считают меня дурой. Почему-то. Притом дурой набитой. Я не возражаю (хоть горшком назови, только в печку не ставь). Кто из нас глупее – время покажет. Меня тоже не на помойке нашли, уверяю. За себя постоять я умею. Мне за другое обидно. Как они умудрились уместить мою душу и характер в сто (с небольшим) русских слов? Это словарный запас корейцев. На двоих…
Все цифры Май-Июнь умножают на поправочный коэффициент. Стоимость работ завышают, цену материалов удваивают. Мне приходится обзванивать фирмы, бегать по магазинам, общаться с прорабами-славянами. Уточнять интимные секреты отделки и строительства. Метаться по городу в поисках колера для краски и латексной финишной шпаклёвки без усадки.
Притом "цифровой терроризм" возникает вовсе не из-за желания ограбить меня. Работает "Эффект восточного базара" (так я его называю).
Представьте, позднее лето, жара; вы зашли после обеда на рынок… зашли, между прочим (вообще-то не собирались). Увидели красивые персики (абрикосы, томаты, кинзу – не суть). Вам захотелось купить. Вы лениво и безразлично (как матёрый охотник) интересуетесь ценой: "Почём ваши красавцы?" Получаете ответ. Ответ вас категорически не устраивает и вы (намёками и порывистыми жестами) даёте это понять… Завязывается беседа. Общение. Торговцу (пожилому грузину) надоело стоять за прилавком. Ему хочется в горы, жарить шашлык-машлык, пить вино, спеть с приятелем песню… На худой конец, поговорить с живым человеком (тем более, если он красивая молодая женщина). Поэтому торговец задрал цену. Логика проста: назови приемлемую цифру – купит и уйдёт. А поговорить?
Корейцам хочется общения. Человеческих эмоций.
Поэтому я бегаю по строительным ярмаркам.
И не говорите, что шопиться для женщины наслаждение. Я вынуждена быть в курсе строительных тонкостей – это занимает всё свободное время.
Уволить Мая, прогнать Июня? А где гарантия, что другие будут лучше? Вдруг Август получится холодным, а в Сентябре задождит?
К тому же, к своим я привыкла. Май высокий, худой и вдумчивый. У него глаза старого корейского еврея. Июнь балагур. У него не бывает пасмурных дней. Он их возвращает судьбе, как Газманов. Если не берут – вталкивает силой.
Такое у меня складывается впечатление.
В понедельник, после строительных Дебатов Выходного Дня, ноги приносят меня на работу. Я смотрю в зеркало и задаю отражению наводящие вопросы: Кто ты, молодая красивая? Где ты теперь? Зачем ты здесь?
– У нас планёрка, – напоминает шеф. Говорит с лёгким отеческим сарказмом, у него доброе настроение. – А ты в облаках витаешь.
– Никак нет! – отвечаю бодро, по-солдатски. – О ваших глазах мечтаю, Иван Андреевич. Очень они замечательные.
Шеф поправляет галстук и розовеет на один тон. Потом ещё на один. Как всякий руководитель он любит лесть. Я думаю, люди стремятся вверх по служебной лестнице, чтобы слышать больше лести. Лесть – эмоциональный наркотик.
– Это хорошо, Фролова. Умеешь красоту оценить, – отреагировал шеф.
Ответ нетипичный, я насторожилась (хотя и виду не подала).
– Посему для тебя особое задание, – продолжил Иван Андреевич.
За глаза шефа зовут, "Шпрехин зи дейч, Иван Адрейч". В школе он учил немецкий (присутствует такое мнение). Зачем я это сказала? Не знаю. Штрих к портрету.
– Командировка в Илавецк. Там че-пэ.
– Какого плана че, и про что пэ? – уточнила я.
Он выдержал паузу, проговорил:
– Насилие над женщиной.
Шеф любит крепкие выражения, умеет припечатать одним кратким словом и матюгнуться в три этажа. Притом комбинирует обороты виртуозно, с поэтическим разнообразием. Плюс, умеет любое слово сделать нецензурным (это талант), даже самое благостное. Однажды (на спор) он трансформировал слово "бытие" в шесть глубоко отрицательных…
Впрочем, я уклоняюсь.
Шеф не сказал "изнасилование", смягчил. Завернул грубую суть в обёртку слов.
– У нас есть криминальная колонка, – я посмотрела на Пашку Крутикова, – пусть она разбирается.
– Дело не в криминале, – шеф налил из графина воды, выпил. – Криминала нам своего хватает. Там нужно разобраться. Вникнуть. Вгрызться. Городок микроскопический, и вдруг такое… безобразие.
Мелькнуло подозрение, что шеф родом из тех мест. "Вероятно… хотя нет, он питерский".
– У меня две статьи в работе и финансовое расследование! – сказала я.
Надежда "отмахаться" от командировки таяла на глазах. Пришлось пустить в ход резерв. Честно говоря, расследование вела налоговая инспекция, моя задача была подхватить материал, в случае непредвиденных обстоятельств. Припугнуть мошенников оглаской.
– Не страшно… – Шеф смотрел сквозь окно, сквозь ветви рябин и крышу соседнего дома. Далеко-далеко. В свою юность. – Справишься. Я тебя знаю.
"Он меня знает! – впору всплеснуть руками. – Я сама-то себя не знаю, а он – знает! Все вокруг знают меня лучше меня самой… фу, какая куцая фраза!"
Опять вспомнились Май-Июнь с их лингвистически-компактным психоанализом.
"Сговорились они, что ли? Или я взаправду… излишне доверчива и немножко наивна?"
Печально склонив голову (и смирившись с командировкой), я подумала, что… "вот я уеду… весна продолжится… и потолки выльются в круглую сумму…" Я собиралась отделать потолки особой штукатуркой, под камень.
Бывают ситуации, когда камень становится жидким.
Шесть часов на поезде плюс сорок минут на автобусе.
Здравствуй, Илавецк!
Маленький город в самом центре Евразии.
Я вышла из автобуса, огляделась. Пыль и солнце – больше ничего. Как в пустыне. Опустила на глаза очки – из белизны (словно на фотобумаге) проявилась автобусная станция голубенького цвета (ультрамарин разбавленный один к двадцати титановыми белилами). Перед станцией – забор, длинная скамейка, початая консервная банка с частиковыми рыбками. Дальше берёза, понурившая голову. Киоск Союзпечати. Отдельно, но рядом со всеми – рослая улыбчивая тётка. Она торговала газированной водой.
Промчался мотоцикл, ему вслед лениво протрусили собаки – какое-никакое развлечение.
Я подошла к тётке, спросила, как найти отделение милиции. Продавщица оглядела меня с ног до головы (глазки маленькие, круглые, цвета переспелой вишни), оценила по десятибалльной шкале и только потом подняла могучую руку:
– Там!
Три буквы. Ни больше, ни меньше.
Или я очень ей понравилась, или категорически разочаровала.
"Однако и на том спасибо, добрый Командор! – подумала я. – Ну что ж, ведь ты при шпаге… как там у Пушкина?"
Чтобы подтвердить свою благодарность, я купила стакан воды, с клубничным сиропом.
Каштаны только-только отцвели. Ещё виднелись кое-где увядшие свечки, на других ветках завязались маленькие зелёные ёжики (мята 221 разбавленная пополам). Я медленно брела и размышляла – настраивала себя на материал.
Тихий провинциальный городок, все друг друга знают… хотя при чём тут размеры и тишина? Разве важно, сколько в городе жителей?
Всякое насилие – зло. Когда хулиганы просят закурить, а потом долго бьют – это одно. Строго говоря, это равносильно, что вас покусала собака. Вы же не станете обижаться на собаку? Она злая, потому кусается. Хулиган – хулиган. Потому он дерётся. Его необходимо наказать, изолировать от общества, но обижаться нет смысла.
Другое дело – изнасилование. Когда человеку ломают волю… всё равно, что сломать хребет. Личность исчезает, рассыпается. Остаётся тряпичная кукла. Как потом жить без хребта?
Я представляла себе, как ЭТО происходило.
Он ударил её, завернул руки за спину… быть может, связал или придушил, чтобы потеряла сознание и не сопротивлялась. Или ещё хуже: приставил к горлу нож, чтобы, наоборот, всё видела и всё чувствовала. Хотел унизить физически и растоптать морально.
"Подонок. Так может поступить только подонок".
Появилось название для статьи: "Падший человек". Выразительное словосочетание. В нём есть осуждение, есть развитие. Точнее деградация личности. Есть история.
Собственно, эту историю мне и нужно было описать. Историю падения.
*
Отделение милиции очень напоминало детский садик. Нет, правда, я так и подумала в первую секунду. Присутствовало всё, что необходимо добротному детскому питомнику:
Заборчик из сетки-рабица – чтобы детишки не разбежались, дворик с престарелыми берёзами, четыре лавочки в квадрат (выкрашенные чем-то пёстрым). Посередине стол. Рядом клумба с отцветающими тюльпанами. На клумбе грибочки – надетые на пеньки тазики красного и желтого цвета.
На лавочке сидел старшина. Пригорюнился. Если бы не он, я бы проскользнула мимо. Старшина в детском садике – чуждый элемент, он привлёк внимание. Потом заметила флаг над входной дверью, золотую табличку, герб. Государственное учреждение.
– Здравствуйте! – поздоровалась.
Старшина сделал под козырёк, поднялся. Я показала удостоверение, спросила, как мне найти следователя. Старшина махнул рукой на входную дверь:
– По коридору налево. Не промахнётесь.
Вот и все формальности, изумилась я. "Не промахнётесь". К нам в редакцию проникнуть сложнее, у нас въедливые вахтёрши. Не от злости, конечно, от страсти к общению… А быть может и от любви к своему делу. Любовь она бывает разная.
Как говорит мой сосед с красивой фамилией Колюбай: "Кто-то любит симфонии Моцарта и "Риголетто" Джузеппе Верди, а кому-то подавай вишнёвое варенье без косточек". На вопрос, почему именно без косточек, Колюбай задирает десну и показывает щербину. "Зуб сломал", – поясняет.
Коридор затопили сумерки. Лампы зажечь не потрудились. Я кралась, придерживаясь за крашеную стену. На секунду мелькнула мысль о лабиринте… где-нибудь в египетской гробнице.
Четвёртая по очереди дверь была открыта настежь. Я подошла, остановилась в проёме. Без малейшего звука. Глупо стучать, когда дверь распахнута.
За столом сидел мужчина, в синей (ожидаемо) рубашке. Пиджак висел на спинке стула. Мужчина что-то писал, очень старался. Вёл авторучку решительно и плавно, словно правил парусной шаландой… по бумажному листу.
Он склонил голову, и я видела лысеющую макушку, пробор, свежую стрижку и незагорелую кожу под срезанным волосом.
Резко кашлянула.
Мужчина поднял глаза.
Кабы подобную "шуточку" проделали со мной, я бы подпрыгнула на стуле от испуга. Долго бы верещала, напоминая потревоженную ящерицу (зелёными пятнами – напоминая – на лице, длинным злым языком и круглыми вытаращенными глазами).
Он даже не удивился:
– Вы ко мне?
Я представилась, навала газету и показала удостоверение. Следователь долго рассматривал фотографию, глаз не поднимал, точно стесняясь взглянуть на оригинал.
Эти секунды я использовала с пользой. Осмотрелась.
Кабинет, как кабинет. Типовой. Правильнее сказать, казённый. Высокий до потолка шкаф с провисшей дверцей. Умывальник в углу (чувствуется – роскошь, ибо начищен до блеска и мылом располагает). Лампа в тесном абажуре коричневого цвета.
На тумбочке у окна – горшок с цветком. Нечто похожее на драцену или на маленькую финиковую пальму. Цветок часто и надолго забывали (все листья усохли и лежали на земле), потом вспоминали и начинали отпаивать водой. Сейчас была именно такая "весна", на макушке появилась зелёная поросль.
Я подумала, что подобная модель поведения типична для человеческих существ: мы часто забываем про друзей… а они забывают про нас. "С ним всё хорошо", – вот пароль, который оправдывает чёрствость.
Потом спохватываемся, охаем, хватаемся за голову, орём в телефонную трубку: "Лечу! Жди меня! Сто лет не виделись, подруга!" Покупаем торт или коробку с пирожными, и мчимся через все "пробки" центра…
Главное не опоздать с раскаяньем, а то придётся покупать две гвоздики вместо торта и плестись за город. Медленно, хотя и без "пробок".
"Цветок, судя по всему, приспособился, – решила я. – Привык к особому "режиму". У растений чаще бывает весна… вёсны для них привычное дело. Это люди шалеют от радости после долгой разлуки".
И ещё подумала, что "Цветок особого режима" – хорошее название. Нужно запомнить.
Прерывая мою задумчивость, следователь спрашивает:
– Чего вы хотите?
Стремительно отвечаю:
– Хочу на синее море, лежать на горячем песке и пить пина коладу.
– Что это?
– Понятия не имею.
– Как это?
– Название красивое.
– Зачем же вы её хотите? – искренно удивляется следователь. Бровки вздымаются домиком.
– Есть мнение, что это коктейль… Вкусный…
Шутка не прошла – это очевидно, – и нужно вернуться на исходную позицию, в точку, где всё доступно для понимания:
– Давайте начнём сначала. Я журналист. Приехала по заданию редакции. У вас произошло изнасилование. Мне необходимо, – акцент плюс пауза, – написать об этом статью.
– Пишите, – простецки соглашается он.
Подвигает мне ручку и бумагу.
"О-о-о!" – Смотрю недоумённо: "Разыгрывает? Или вправду дурак? Емелюшка-дурачок. Щука… прорубь… туда-сюда… но где печь?"
Печи в комнате не было. Только умывальник.
– Мне нужны материалы.
– Понимаю… хотите ознакомиться… понимаю…
За левой створкой шкафа расположился сейф (академический, из листового металла, с подвижной "висючкой" над скважиной). Из сейфа следователь выудил папку на тряпичных завязках, сунул мне: "Здесь всё. Можете прочесть".
В моём животе зародилась злость. Маленький агрессивный лепесток. Что-то (вернее, всё!) в этом разговоре шло не так, как я хотела. И следователь Емеля вёл себя нетипично.
Папку я накрыла ладонью, произнесла:
– Материалы прочту. Обязательно. Однако будет лучше и быстрее, если вы введёте меня в курс дела своими словами.
Емеля оказался не такой уж Емеля. Понял, что от меня не отделаться, пошел поставить чайник. Развернул бумажный пакет, вынул бутерброды, яблоко и несколько печенюшек. Печеньки потрескались и покрыли яблоко бархатной нежной крошкой.
"Решил пообедать, чтобы время зря не пропадало, – сообразила я. – Практичный. Точно не дурак".
Следователь проговорил:
– Рассказывать особо нечего. Молодые…
Он произнёс это слово, как оправданье. Точно бы заступаясь. Я подумала, что возраст, как раз, отягчающее обстоятельство. У молодого преступника вся жизнь впереди, а значит, он может натворить много бед в будущем. Это обстоятельство необходимо учитывать.
– Выходные были, – продолжил следователь. – Поехали на речку. Выпили, закусили… Быть может плохо закусили или лишку выпили. Полезли купаться. Разделись. Юные красивые тела, жаркий вечер… Тут до греха – рукой подать.
Жестом он предложил мне бутерброд, я взяла яблоко. Вытерла платком. Хрустнула.
Постучала карандашиком:
– Так-так…
Следователь вопросительно скосился.
– Для начала, давайте познакомимся. Как меня зовут, вы знаете. А ваше имя-отчество?
– Рудня Олег Сергеевич.
– По званию?
– Это зачем? Допустим капитан.
Я так и записала в блокноте: "Допустим-капитан".
– Как фамилия насильника?
– В протоколе всё написано. – Следователь говорил сухо, уперевшись взглядом в столешницу: – Потерпевшая Светлана Насонова. Двадцать четыре года. Незамужняя. Подозреваемый Плотников Александр Фёдорович. Тридцать восемь лет, разведён. Детей нет. Что-то ещё?
"Ещё? – мысленно повторила я. – Ещё много чего!"
Попросила:
– Одну минуту. Я запишу.
От окна к двери прожужжала муха. У парадного остановилась машина (скрипнули тормоза). Где-то за стеной звякнула о тарелку ложка.
Следователь Рудня (наконец-то!) посмотрел мне в глаза. Прямо. Открыто. Зрачки в зрачки.
"Ничерта ты не понимаешь, девочка!" – прочла я в его зеницах снисходительное "послание".
Прочла и обиделась: "Неправда ваша, товарищ допустим-капитан! Кое-что я понимаю лучше тебя, Емеля Сергеевич Рудня!"
Нужно было поставить его на место. Зарвался, провинциальный следователь.
– Как мне поговорить с подозреваемым Плотниковым? – тон ледяной, взгляд колючий. – Он в камере предварительного заключения? Выпишите пропуск.
– Почему в камере? Зачем такие крайности?
Рудня оторвал от настольного календаря листок, что-то на нём написал. Протянул мне: – Вот адрес. Только сейчас он… – следователь посмотрел на часы, – …сейчас он занят. Сегодня вообще-то неприёмный день. Вы неудачно зашли.
Сева Усольцев (редакционный хохмач, отец шестерых мальчишек и дважды дед Советского Союза) говорит в таких случаях "Оп-па!" Приседает и хлопает над головой в ладоши, демонстрируя крайнюю степень удивления.
"Что здесь, чёрт возьми, происходит? При чём здесь неприёмный день? Кого Плотников собирается принимать? Или это он записался?" – вопросы грудились и наползали друг на друга, напоминая льдины в ледоход.
Сохраняя на лице высокомерную мину, я выбралась на улицу. Выбралась, надо сказать, несколько ошарашенная. Вздохнула полной грудью.
Солнце стояло в беспощадном зените, мелькнула сорока, небеса казались выстиранными с отбеливателем.
"Какое небо голубое, – напевал хрипатым шепотом репродуктор. Обещал: – мы не сторонники разбоя…"
Приблизился старшина, нейтрально осведомился, как дела. Я ответила, что всё в норме. Нестрашно улыбнулась. Старшина смутился, потоптался на месте (перевалился с ноги на ногу, точно свежеподкованный конь). Попросил на него не давить.
Чувства мои были далеки от порядка, и я переспросила:
– Что?
– Не давите, – повторил старшина.
– На кого?
– На Рудню.
– На какую?.. В смысле, почему?
– Беда у него.
Милиционер сконфузился ещё сильнее и отошел. Я почувствовала, что теряю ориентацию в пространстве и времени, медленно досчитала до двадцати. Это помогло.
Если "подбить бабки" получается вот что: девушку изнасиловал некто Плотников – раз. Насильник на свободе – два. У него какой-то приём – три, а меня просят не давить на следствие – четыре.
"Или я сошла с ума, или в славном городе Илавецке так принято?"
Пошла по улице, мечтая о порции шоколадного суфле. Не для того, чтобы полакомиться, но в терапевтических целях. Этот продукт питания неплохо восстанавливает мои моральные силы.
Искать такси было бесполезно (не формат провинциального города), автобусных маршрутов я не знала. Пришлось "остановить" велосипедиста – пацана лет десяти, – и спросить у него направление:
– Где находится ближайшая гостиница, мальчик? Любая…
Хотелось принять душ, переодеться и приготовиться к бою. Первый раунд я (к своему удивлению) проиграла, но это не повод сдаваться.
Мальчуган плюнул на колесо и радостно выпалил:
– А она у нас одна, тётенька!
Хам! Это я – тётенька?! В своём родном городе я бы обиделась на такое обращение, но в здесь обижаться было бесполезно (поняла это со всей очевидностью), и потому пропустила "тётеньку" мимо ушей.
– О'кей, Вождь Краснокожих! Показывай направление!
– Вон там! – он махнул рукой. – На набережной.
– Благодарю тебя, Монтесума.
В мою словесную игру мальчишка не вступил, он думал о чём-то, разглядывая мои туфли.
– А хочите я вас провожу? – разразился идеей. – Мне не трудно, тётенька. А вы мне – марожина.
Опять это отвратительное слово!
– Вот ещё! Сама справлюсь.
Мальчишка пригорюнился, но всё одно поехал следом. Получился своеобразный эскорт. Он перекрикивался со знакомыми, останавливался, трепался со сверстниками, врал, что провожает знакомую тётеньку "до гостиницы", обгонял меня, возвращался, вертелся под ногами. Пришлось дать денег на эскимо. Просто, чтоб отвязался.
Вымогатель!
Речушку Илу (давшую название городу) перегораживала плотина. Посредине был устроен шлюз: откосы из тесаного камня, огромная чёрная плита в пазах-направляющих. Над плитой чугунный винт с колесом (на самом верху). Сооружение холодное, равнодушное, монументальное и основательное одновременно. По краям колеса – литые орехи и дубовые чугунные листья. Надпись, утопавшая в слоях краски: "Сей механизм изготовлен при посредстве Невьяновского чугунолитейного завода. Литейный мастер Илья Долгопрудный. Год 1837".
"Красиво!" – изумилась я. – На века работали мастера. Потому старались, делали красиво. Орешки отливали, вензеля резали, заботились".
По нынешним временам глупо что-либо делать на века, слишком быстро меняется время. Одна технология сменяет другую, тиражные производства вытеснили ручной труд. Вещи обезличились, словно яйца в инкубаторе. Однажды я делала статью о птицеферме. Наши привезли итальянскую технологию. Плюс их мастера-технолога. Мастер был родом из южных областей Италии, из Калабрии. Тёмный и порывистый, как смертный грех. Красиво горячился, размахивал руками.
Я надела стерильный халат, на голову колпак. Вошла в инкубатор (отдельное стерильное помещение). Показалось, что попала на космический корабль… или в светлое будущее. Тысячи ровных бесконечных рядов медленно поворачивающихся яиц… удивительное зрелище. Серийное производство в его высшей, пиковой степени. Серийные куры, серийные люди.
Если вдуматься, теперь нужно хоронить людей, как фараонов, вместе с покойником отправлять в могилу старые вещи. Кому они нужны? Детям? Внукам?
Никому.
Мост плавно переходил в набережную, изгибался. Через две сотни шагов каменный парапет саморастворялся в естественном песчаном откосе, оставалась только чугунная ограда и намёк на мостовую. Вскорости и эти излишества прекращались. Дальше вдоль берега бежала песчаная дорожка, кустики травы, цветы чабреца, лилии. Кое-где виднелись ивы: девы-русалки опускали в воду свои ветви-волосы. У одной такой ивы притулился человек. Рыбак.
Меня удивило его одеяние: пиджак и брюки со стрелками (уже подозрительно). Я пошарила взглядом по ближайшим кустам, надеясь увидеть бутылку "червивки" – обычной спутницы рыбака. Не нашла.
На голове мужчины лежала шляпа-канотье (ещё более подозрительная, чем стрелки на брюках). Сбоку (в двух шагах) сидела кошка. Не просто сидела – соучаствовала. Она не отрываясь, смотрела на поплавок, переживала. Только изредка перебрасывала хвостом вправо-влево.
Я подошла ближе… в этот момент поплавок ушел под воду.
Рыбак отреагировал с секундным опозданием, рванул удилище вбок, затем вытянул из воды леску – на крючке трепыхалась рыбка.
– Пескарик, – прокомментировал, обращаясь в пространство.
У него были (у рыбака, не у рыбки) большие, ясные глаза. Чуть удивлённые, красивого зелёного оттенка. Он будто не ожидал, что здесь можно что-то поймать… ан, вот поймал. Редкая удача.
Позже я поняла, что Эдуард Ляликович (так звали рыбака) удивлялся всему. Он так воспринимал действительность. Ясное утро – радость. Небо в кудрявых облаках – удивление. Принесли пенсию – удача и восхищение.
И во всякой малости – благодарность.
– Рыбка мелкая, а ловить трудно, – пояснил уже для меня.
Из воды (за петельку) он вынул прутик, на котором, сквозь жабры, висели ещё несколько рыбёшек. Привесил только что пойманную добычу. За процедурой внимательно наблюдала кошка: она подошла и сосчитала улов… так мне показалось.
– Если поймаю много, – продолжил Эдуард Ляликович, – сварю уху. А если мало – отдам кошке.
Вот оно что! Имеет место конфликт: у рыбака и у кошки разные интересы.
Мне захотелось улыбнуться. (Обычно я стараюсь этого не делать с новыми знакомыми. Можно обидеть человека.)
– Это тактически неверно, – высказалась. – У вашего единственного зрителя, – показала на кошку, – и у вас противоположные задачи. Вы хотите поймать побольше, а она мечтает, чтоб клёв прекратился.
– Ну что вы! – Эдуард Ляликович улыбнулся (вместо меня… точнее, за нас обоих). – Кошка мечтает, чтобы я поймал очень много. Тогда хватит мне и ей.
Вода ослепительно бликовала. Сияла, переливалась, плескалась, будто навстречу мне катилось бесчисленное множество золотых шариков. Возникло естественное желание сбросить одёжку и нырнуть в это "прохладное золото". Взамен этого я спросила: