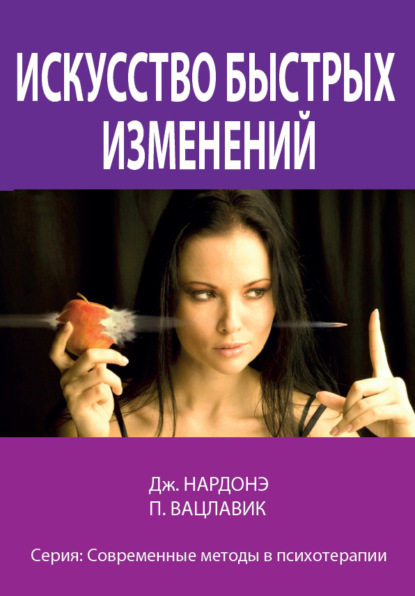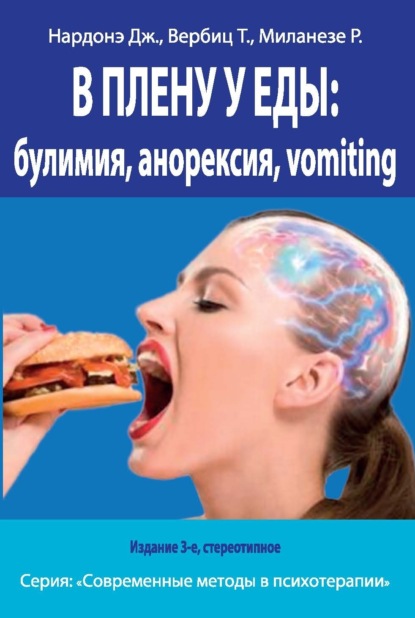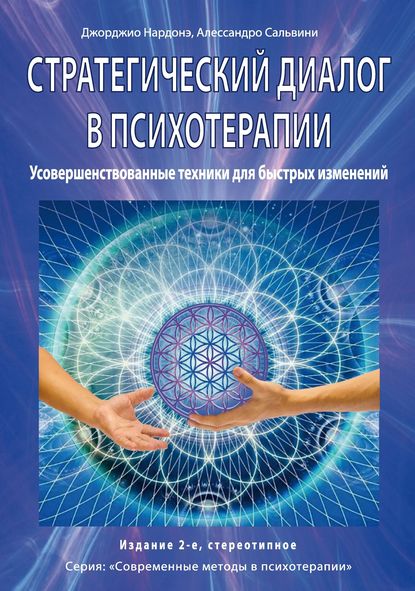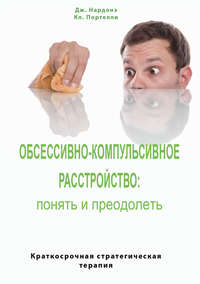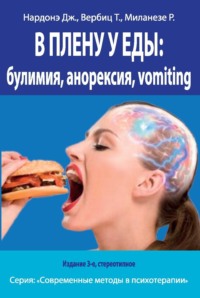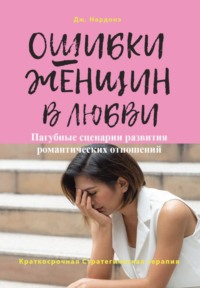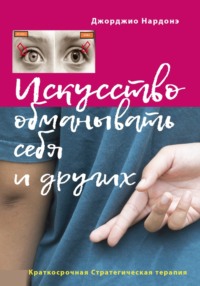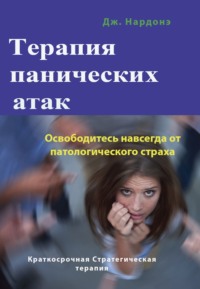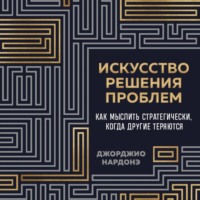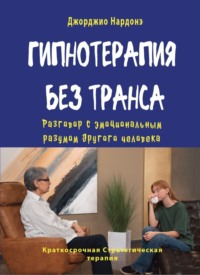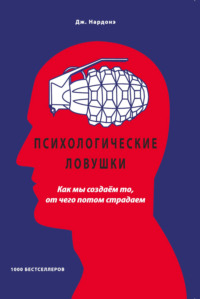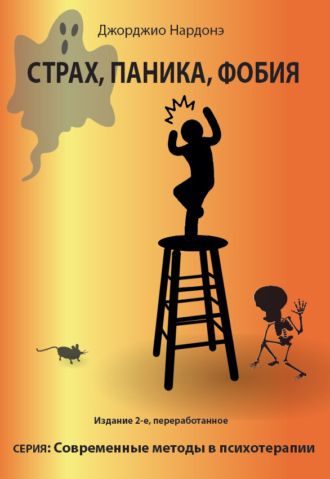
Полная версия
Страх, паника, фобия
Посему сегодня можно считать достигнутой поставленную цель по разработке систематической строгой модели вмешательства, которая запланированно и с меньшим риском вызывает тот эффект, который случайно был достигнут в двух процитированных случаях, то есть конструирует в терапевтическом взаимодействии «придуманную реальность», способную производить конкретные эффекты в повседневной реальности пациентов. Терапевт, который проводит подобный тип вмешательства, подобен мудрецу из следующей притчи: «Али Баба после своей смерти оставил своим сыновьям в наследство 39 верблюдов. Завещание предусматривало следующий раздел имущества: старший сын должен был унаследовать половину верблюдов, второй сын – четверть, третий сын – восьмую часть, а самому младшему сыну должна была достаться десятая часть верблюдов. Четверо братьев яростно спорили между собой, поскольку никак не могли прийти к согласию. В это время в тех краях проходил странствующий мудрец, которого привлек спор, и он почти волшебным способом решил проблему братьев. Мудрец добавил своего собственного верблюда к 39 верблюдам, составлявшим наследство, и начал раздел имущества под недоумевающими взглядами братьев: старшему брату он дал 20 верблюдов, второму – 10, третьему – 5, а самому младшему – 4 верблюда. После чего он сел на оставшегося верблюда, который был его собственным, и отправился в свои странствия» (Eigen, 1990, 140).
При решении проблемы мудрец добавил один элемент, необходимый для решения, а потом вновь забрал его себе, поскольку после решения проблемы этот элемент больше не был нужен. Таким же образом в случае фобических пациентов благодаря терапевтическому взаимодействию прибавляется нечто совершенно необходимое для эффективного и быстрого решения проблемы, а потом это нечто вновь забирается терапевтом по окончании терапии, поскольку в нем нет больше необходимости. Такой вид вмешательства лишь кажется «магическим», в действительности же он является плодом применения принципов высокой научной строгости в отношении существования проблем и их решения. Эти принципы при их применении предусматривают творческое приспособление к обстоятельствам, чтобы суметь разорвать «заколдованный круг», характерный для сложных и самовоспроизводимых человеческих проблем. К тому же, как утверждал Бейтсон (1979), «одна лишь строгость, принципиальность означает смерть от паралича, а одно лишь воображение означает сумасшествие».
Страх, паника, фобия
Глава 1. Определение проблемы и методология
Все то, во что верят, существует, и только это.
Гюго фон Хофмансталь1. Проблема: определение и/или описание тяжелых форм страха, паники и фобий
Типы проблем, рассматриваемые в этой книге, заслуживают обстоятельного пояснения, поскольку с помощью терминов «страх», «паника» и «фобия» описывается так много психологических и поведенческих «реальностей», что они кажутся несогласованными между собой. Зачастую это происходит из-за того, что они опираются на различные теории. «Если хорошо посмотреть, то «страх» является лингвистической этикеткой, которой мы маркируем разные вещи, в зависимости от теоретического подхода и исследовательских инструментов. Физиологические показатели, выражения лица, поведенческие черты, субъективный опыт обуславливают тот факт, что каждый единичный рассказ о страхе становится рассказом наблюдателя, который, опираясь на свои собственные «карты», выстраивает, деля на сегменты, то, что он видит, и помещает увиденное на различные уровни реальности» (Salvini 1991, 12). Например, одна и та же определенная форма страха может быть описана:
а) психоаналитиком как результат нерешенной «детской травмы»;
б) бихевиористом как форма обучения и социальной обусловленности;
в) семейным терапевтом как результат неправильного функционирования семейных отношений;
г) когнитивистом как вид реакции на способ привязанности и разделения;
д) экзистенциалистом как выражение тревоги бытия.
Все эти различия во взглядах на проблему заставляют вспомнить об индийской метафоре о четырех слепых вокруг слона. Каждый из слепых может ощупывать доступную ему часть слона и не может видеть его целиком, но при этом утверждает, что именно его «реальность» верна в описании того, как устроен слон. Таким образом, для одного слон – это нечто длинное и эластичное, хобот; для второго – это массивная груда мяса, бок; и так далее в соответствии с ограниченным восприятием тела слона. С точки зрения стратегического подхода к возникновению, функционированию и решению человеческих проблем (Watzlawick, 1974, Нардонэ, Вацлавик, 2006, Nardone, 1991), все эти различия не имеют большого значения, поскольку относятся к интерпретациям этого типа проблем, которые не только совершенно не помогают разрабатывать эффективные способы их решения, но часто представляют лишь определенное – ограниченное или художественно-описательное – видение проблемы. Если же применять посылки современной эпистемологии конструктивизма (von Glaserfeld, von Foerster, Watzlawick), то человеческие проблемы рассматриваются как продукт взаимодействия субъекта с реальностью, и более конкретно – как результат того, «каким образом» каждый человек воспринимает реальность в зависимости от «перспективы» восприятия проблемы, от используемых инструментов познания и от типа используемого им языка. Подобная сложная система восприятия и осмысления нас самих, других людей и окружающего мира формирует представление об окружающей действительности, которое, в случае, если человек страдает каким-либо расстройством, приводит к нефункциональным реакциям на воспринимаемую соответствующим образом реальность. Это определяется нами как «перцептивно-реактивная система»[5] человека.
Нас интересует конкретное функционирование проблемы, ее процесс и динамика, открытие и изучение присущих ей правил и функций и последующая разработка эффективного и быстрого решения: то есть нас интересует «как» функционирует проблема, а не почему она существует. Подобный сдвиг точки зрения позволяет сконцентрироваться на разработке быстрых и эффективных способов решения проблемы, не теряя время на трудоемкие, не слишком достоверные и совершенно бесполезные поиски предполагаемых «причин» существующей проблемы. С этой точки зрения выявление проблем осуществляется эмпирическим образом, опираясь на отчет пациента и его близких и на то, что в ходе взаимодействия терапевта с пациентом/пациентами определяется как проблема, которую надо решить[6]. Следовательно, диагностика тяжелых форм фобических расстройств, использованная в данной работе по применению исследования-вмешательства, получена непосредственно из отчетов пациентов, не прибегая при классификации к какой бы то ни было форме интерпретации данных. В выборке субъектов, на которой проводилось данное исследование, были представлены различные типы проблем, основанных на страхе, панике и фобиях.
Общим для всех субъектов выборки было то, что все они были неспособны вести самостоятельный и независимый от близких им людей образ жизни, поскольку не могли заниматься различными видами деятельности, не испытывая при этом страха или фобических состояний. Приводимые клинические случаи, что очевидно для специалиста, точно соответствуют диагностической дифференциальной классификации DSM III R (Руководство по диагностике и статистике психических расстройств, пересмотренное и дополненное), определения из которого мы процитируем. В нашей клинической практике мы, тем не менее, предпочитаем избегать «этикеток», типичных для психиатрической классификации психологических проблем, дабы избежать их влияния в виде эффекта «самореализующегося предсказания» на субъекта, к которому они применяются. В клинической практике мы сознательно используем вместо термина «болезнь» термин «проблема», из-за его положительного смысла, который не обязательно ассоциируется с патологией. Использование в разговоре с пациентом термина «проблема» вместо того, чтобы говорить о болезни, позволяет построить терапевтическую реальность, ориентированную на решение (всем известно, что проблемы существуют для того, чтобы их решать). Этот маневр коммуникации представляет собой переопределение расстройства и часто имеет свойство самого настоящего терапевтического вмешательства в силу своей способности депатологизировать симптом. Тем не менее, в данном случае мы считаем важным соотнестись с диагностической классификацией психологических расстройств, принятой на международном уровне сообществом ученых, с целью систематической оценки результатов нашего исследования-вмешательства. Поскольку данная работа является не просто терапевтическим вмешательством, а представляет собой вклад в распространение знаний и должна быть сопоставима с другими научными исследованиями, мы здесь будем пользоваться терминологией, которой мы, конечно, не употребили бы в ситуации клинического вмешательства.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
(Лат.) – специальный; для данной цели.
2
Взаимоотношения с Вацлавиком и его коллегами в дальнейшем развились из изначальных отношений между мастером и учеником в отношения сотрудничества и обмена в исследованиях. Это сотрудничество привело к публикации книги «Искусство изменения». (Опубликована на русском языке под названием «Искусство быстрых изменений: Краткосрочная стратегическая терапия», Нардонэ, Вацлавик 2006)
3
По этой тематике см. Нардонэ, Вацлавик, 2006, гл. 3.
4
См. напр. Русскоязычное издание: Вацлавик П. и др. Прагматика человеческой коммуникации, М., 2000.
5
Для более подробного ознакомления с этим конструктом отправляем читателя к следующей главе.
6
Как будет объяснено в дальнейшем, конкретное определение проблемы, приведшей субъекта/субъектов к обращению за терапией, является первым шагом стратегического вмешательства.