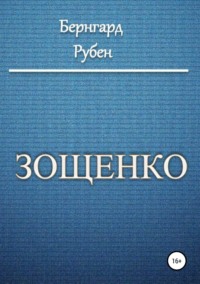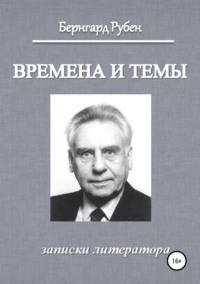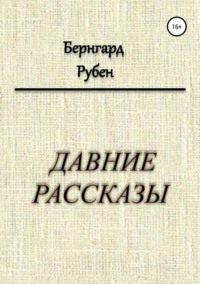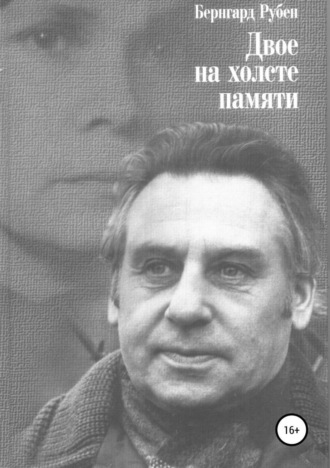
Полная версия
Двое на холсте памяти
Дома он достал с самой верхней полки «Трех мушкетеров», любимейшую книгу своего отрочества. В ту пору он легко пересказывал ее почти наизусть с любой наугад открытой страницы, а диалоги в захватывающих местах декламировал про себя слово в слово. Он листал теперь книгу, лежа в постели, читал, вспоминая отдельные эпизоды, и что-то жизнестойкое, даже радостное, как из тех благословенных лет, возникало в его побаливающем, но живом сердце. Ему стало спокойнее и теплее. Очевидно, в него вернулась тогда душа. Было давно заполночь. Пятница кончилась.
И настали очередные выходные дни. Он прервал свои поездки в Измайлово, осознав, насколько обманчивым было его забытье там. Каждый его шаг, взгляд, прикосновение в Замке – все вызывало ответное облучение горестью о Дуне, о них обоих, о том, что здесь было и кончилось. И, спасаясь в Замке от одиночества, он в то же время попадал под воздействие этой растравляющей душу радиации.
Оставшись дома, он тем сильнее надеялся пообщаться в эти дни со своими приятелями. Особенно хотелось увидеться с Сергеем Коробко, с которым он был дружен ранее нынешней компании. Коробко заведовал одной из редакций в Центральном партийном издательстве, но был человеком «оттепельных» взглядов, и редакция его, возникшая в тот благословенный период, также считалась до сих пор весьма приличной, несмотря на саму «фирму». Кортин испытывал к нему давнее тяготение и почитал за глубокий ум. А Коробко и его жена Ольга, значась его друзьями, соблюдали некую тонко ими устанавливаемую и трудно уловимую для прямодушного Кортина дистанцию и имели, как с опозданием догадывался Кортин, еще свой, отдельный от него, круг общения с наиболее почитаемыми авторами, издававшимися у Сергея. С компанией Кортина и Дуни они соприкасались только при сборах у него в Сокольниках. И Новый Год неизменно встречали дома, своей семьей; потому Кортин и отклонил сделанное ему на этот раз, после смерти Дуни, приглашение прийти на Новый Год к ним, и Сергей нисколько не настаивал, не уговаривал, сразу принял его отказ как должное. Но, несмотря на все подобного рода пометки ума, сердце его стремилось к Коробко и видело в нем достоинства, пропуская недостатки.
Но никто из близких приятелей ему в те выходные даже не позвонил. Коробко молчал уже две недели, Мильчин декаду. Единственный, кто позвонил ему в субботу, был Кованов, пригласивший его поехать на днях в Михайловское, «к Пушкину», как он выразился. Туда направлялись на экскурсию преподаватели техникума, в котором работала его жена, и у них оказалось свободное место. Кортин встрепенулся – да, надо проехаться, оторваться от дома. И тотчас вспыхнуло – опять из Дуниного последнего письма: «П о п у т е ш е с т в у й!» Она ведь составила ему целую программу, чтобы он выжил после ее смерти.
Конечно, Михайловское было не путешествие, три дня всего, но все же поездка, отвлечение, так нужное ему сейчас. И время поездки подходило – как раз между его днем рождения и Дуниными сороковинами. А он был чуток к таким совпадениям, принимал их за перст судьбы. Он согласился поехать, выразил Ковановым признательность и даже сходил с ними вечером в кино, соблазнившись фильмом Эйзенштейна «Иван Грозный». Это была вторая серия, запрещенная тридцать лет назад Сталиным, а нынче допущенная на экран, как либеральная подачка властей. Но не такой фильм нужен был сейчас Кортину, он с трудом дотянул до конца.
После кино они прошлись втроем по ночной Москве от Никитских ворот к Манежной, по самому центру, мимо Университета, где он учился заочным порядком в молодые офицерские годы, мимо державного Кремля, и эта прогулка внесла наконец в его душу успокоение – и тишиной, и стариной, и присутствием рядом с ним людей.
Но воскресенье он опять провел в полном одиночестве. За работу не брался, писал с утра свой дневник, все еще ожидая телефонных звонков от своих приятелей. Никто, однако, не звонил ему, только Кованов уточнил по телефону его паспортные данные для внесения в список едущих на экскурсию – нигде не обходилось без анкетных формальностей. Сам он тоже никому не звонил, сказав себе, что пусть он лучше загнется, нежели подаст им сигнал SOS. И по справедливости тут же признал, что в таком случае у него тем более нет резонов кого-то упрекать. Очевидно, его приятели привыкли считать, что Кортин – сильный человек, со всеми бедами справляется стойко, и сейчас им было удобно так думать и сообразно вести себя. Так что ему самому надо было выбираться из-под обломков его рухнувшей жизненной постройки.
Он понимал, что выстоять ему должна помочь работа. Теперь работа приобретала для него значение и обещанного Дуне и завещанного ею дела. «Т е б е е с т ь ч т о с к а -з а т ь, и т ы т е п е р ь в с е с м о ж е ш ь», – написала она ему. Первоочередными были две вещи – повесть о Раткевиче и повесть о друзьях молодости. Вот о прочитанных страницах этой последней Дуня и воскликнула удивленно и радостно: «То самое…» Как всегда, она была немногословна, как бы сама себя прервала, чтобы не высказаться наставительно, что именно э т о г о давно ждала от него.
Он был обязан написать эти свои книги. И еще одну, самую, должно быть, главную, которая зарождалась в его душе, – о Дуне. С таким настроением он и встретил свой день рождения, наступивший ровно через месяц после ее смерти, в то же число. Он решил сделать этот день истинно рабочим, как бы исходным для своего возрождения. Тут он прежде всего связывал свои литературные надежды с повестью о Раткевиче. С ее написанием и публикацией. Он работал в течение всего дня, отвлекаясь одновременно на телефонные звонки – наконец-то прорвался заслон отстраненности, окружавший его в последние недели. И эти телефонные звонки совсем не мешали ему работать, они были нужны ему, он говорил с охотой, не спеша, иногда продолжительно, переводя разговор на воспоминания о Дуне после того, как выслушивал добрые пожелания себе. Подходили ее сороковины, и Кортин почувствовал, что у всех друзей появилась потребность отметить этот день. Их души пришли в движение, это было явно. И он говорил всем, что Дунин Замок – стоит, всё там по-прежнему, на месте, и можно собраться именно там, в Измайлове, в последний раз в её Замке.
В этот день он закончил вторую главу повести о Раткевиче и сделал там всё, что хотел, – удачно дописал, перекомпоновал, отредактировал. А телефонные звонки продолжались до самого вечера. Последним позвонил Коробко. Еще днем пришла от их семейства телеграмма, и Кортин подумал, что лучше бы Сергей позвонил ему и не нужно никакого красивого праздничного телеграфного бланка, это только по видимости эффектнее, а для него суше и пустее, чем живой голос; а еще лучше – зашли бы они, безо всякого приглашенья… Но вот Сергей и позвонил, если не зашел, и они по-доброму поговорили, и тоже условились насчет сороковин.
После этого разговора он достал из холодильника полбутылки шампанского, оставшиеся от Нового Года, и выпил, потягивая под яблоки и «мишки на севере», два бокала. Эти «мишки» он удачно, как подарок, купил сегодня по дороге из кафе, куда заходил перекусить-пообедать. Так он отметил свои пятьдесят три года, почтенный возраст, в котором ни загадывать далеко, ни откладывать свои дела уже нельзя. Когда скупой счет и отсчет времени – не скаредность, не черствость, но необходимость и благо. И когда всё еще возможно сделать что-то важное, главное, особенно тому, кто столь запоздало находится, как он, на пороге своих возможностей.
Как и в новогоднюю ночь, он сидел в своем кресле перед телевизором, поглядывая на пустое Дунино кресло. Он пил чай, смотрел телефильм по Чехову – шли «Три сестры» – и жалел добрых, честных, неумелых и беззащитных героев пьесы. До чего же грустная была жизнь у тех людей, несчастная, неудавшаяся. Да она и вообще такая для многих на этом свете. Чаще всего для тех, чью жизнь он обозначил бы как «путешествие дилетантов» – по прелестному названию романа Булата Окуджавы, недавно опубликованного и прочитанного им и Дуней. Однако сколько же этой несчастности и неустроенности – от самих людей, в них самих, от их инертности, прекраснодушия, смешанного с эгоизмом, даже от хорошего в них, не только от дурного, дурные-то как раз не страдают, теснят хороших. И ему захотелось крикнуть всем – и тем, кто мучился на экране, и тем вокруг, кто был жив-здоров, но ходил в несчастных: «Милые, это еще не горе, и всем нам должно помнить про самую страшную беду над головой».
За всеми этими делами у себя в Сокольниках, не посещая Дуниной квартиры, он вроде вошел в какую-никакую колею, и экскурсия в Михайловское представлялась уже ненужной. Ему расхотелось ехать: ранний выезд, длинная утомительная дорога в автобусе, наставшие январские холода. Да тут еще сделался опасный гололед по сильному морозу после двухнедельной гнилой погоды. Об этом гололеде и дорожных катастрофах с утра до вечера говорилось по радио и телевидению. Приводилась впечатляющая статистика. Кортин подумал о себе, как о бобыле, за которым и ухаживать некому, если он заболеет или попадет в аварию. А случись наихудшее, так и вообще некому толком распорядиться ни его сочинениями, ни архивом, ни всем другим достоянием, и не напишет он своих намеченных книг. Куда уж ему рисковать сейчас и изнуряться после всего происшедшего. Но все эти разумные и жалостливые доводы произвели в нем, как всегда, обратное действие: согласился ехать – поезжай, пройди свою судьбу, не уклоняйся. И коли пройдешь благополучно, значит, Великая сила еще за тебя, живи, работай, исполняй свой обет. «Наш рок – наш характер», – думал он, когда невыспавшийся и хмурый, прибыв первым поездом метро к Белорусскому вокзалу, стоял на морозе под ночным небом вместе с Ковановыми в ожидании их автобуса, затерявшегося на площади в массе разнородных экскурсионных машин.
Экскурсия была стремительной, с неминучей беглостью осмотров и клочковатостью получаемых сведений. К тому же и сами путешественники желали охватить как можно больше пунктов, заехать по пути и в Псков, и в Новгород, и в Печоры – пусть на час всего, да отметиться – были! А чтоб воспринять увиденное сердцем, такой задачи у большинства не было. Оставаясь от этих страстей в стороне, Кортин вспоминал, как позапрошлым летом ездил сюда, в Пушкинские горы, из Ленинграда на автомашине со своими школьными приятелями. Тогда он ехал, зная, что Дуня дома, на месте, ждет его, и все в их жизни идет опять своим чередом – после ее второй операции. Теперь ее не было ни в Измайлове, ни в Сокольниках, он вез ее только в душе своей. И все время думал о ней. Сначала, наблюдая за Ковановыми, он невольно сравнивал его жену с Дуней и отмечал про себя: «Нет, Дуня бы мне так не ответила, Дуня бы так не сказала, не поступила…» Потом и сравнивать перестал, просто вез ее в себе. И на всем пути, даже резче, чем дома, он чувствовал свою неприкаянность в окружающем мире и шаткость единственного его прибежища в собственной больной душе.
Поездка окончилась без происшествий, но отвлечения не принесла. Она лишь подтвердила ему и без того известную истину, что куда бы ты ни отправился, ты повсюду повезешь с собой самого себя.
Часть вторая. Две судьбы
I
Накануне сороковин он поехал в Измайлово, чтобы подготовиться к этому дню и придать квартире должный вид. У него был намечен целый план подготовки, и в первую очередь он занялся ее книгами – теми, которые Е.А. Никольская выпускала в свет как редактор и которые затем дарились ей благодарными авторами. Со всею массой этих книг он столкнулся год назад, когда она лежала с сильной простудой, а он ухаживал за нею и в один из дней взялся с ее позволения навести порядок в кладовке. Дуня давно запихнула их там на самый верх, не заботясь о какой-либо систематизации и вперемешку с другими ненужными ей книгами. Еще немало отредактированной ею продукции, особенно первоначальной, она и вовсе не сохранила по своему легкому, в отличие от Кортина, отношению к архивности. А в комнате, в застекленных книжных полках, оставила только нескольких своих авторов, весьма известных писателей и приятных, близких ей по духу людей, произведения которых вполне могли находиться в любой хорошей библиотеке.
В этих редактировавшихся ею книгах, собранных теперь вместе и в хронологическом порядке, заключалась по времени наибольшая часть ее взрослой жизни, кроме последнего десятилетия, – самые деятельные, трудовые и, пожалуй, благополучные годы при всей их материальной скудости, воспринимавшейся тогда как общая норма. А благополучными, даже радужными те годы были у нее по молодости, здоровью, интересной работе и общению с авторами, по всему образовавшемуся наконец складу культурного бытия с устойчивым интеллигентным кругом подруг и знакомых людей, где ее, Дину, считали своей, ценили, уважали, любили, и это значительно скрашивало отсутствие у нее «личной жизни». Да ведь и «оттепель» была тогда на дворе.
В представлении людей этого круга, связанных в основном с издательской работой, она была прирожденным редактором. Однако сама она рассказывала Кортину, что мечтала в юности стать биологом или, лучше всего, астрономом. Ее влекла к себе природа, мироздание, и когда за год до конца войны она вернулась из Казахстана с отцом в Москву, то собиралась поступать на один из естественно-научных факультетов университета. Но там уже прекратили прием заявлений. В Москве вновь было полно народу: фронт, не то что в сорок первом, громыхал далеко на Западе, в Польше, приближался к Восточной Пруссии, и жизнь в столице, предвкушавшей неминуемую теперь Победу, кипела с небывалой интенсивностью. Москву наводнило начальство всех мастей и рангов, и дети этого многочисленного советского комсостава – военного и штатского – нахлынули в самые престижные высшие учебные заведения, перекрыв с лихвой нормы приема. Кортину было нетрудно представить, как там проводился помимо открытого и неофициальный, «козырной» прием – звонили телефоны, мелькали порученцы, появлялись сами начальники… А находившаяся вне этого бурлящего потока простая чертежница Дина, чьи документы не взяли рассматривать в университете, случайно проходя по Садово-Спасской, увидела объявление о продолжающемся приеме в Полиграфический институт, который там как раз и помещался. Из этого объявления она узнала, что в институте имеется редакционно-издательский факультет, и подумала о том, что всегда любила литературу, была привержена к книгам, и что это занятие тоже, наверное, подходящее для нее, коли не получается ничего с естественными науками. Была уже осень. Она подала заявление на вечернее отделение. Ее устраивала такая возможность – и посещать лекции, и работать. Ей надо было зарабатывать на жизнь, поскольку отец снова уезжал из Москвы. Он ехал в южные края, в лесопромышленное хозяйство, по предварительной договоренности на невеликую, но самостоятельную должность и с предоставлением сразу по прибытии жилья. Своего жилья в Москве у них уже не было – деревянный дом в ближнем дачном пригороде, в котором они жили до войны, больше не существовал, его разобрали на дрова и перекрытия для блиндажей, вырытых на этом последнем рубеже обороны столицы осенью сорок первого года. Да и принадлежал он наркомату угольной промышленности, где Андрей Александрович служил по хозяйственной части. Во время эвакуации в Карагандинском угольном бассейне отец ее переболел малярией и решил по возвращении перейти в другую отрасль, поселиться в благоприятном климате. Двадцатитрехлетнюю Дину он оставлял в Москве, квартировать у знакомых, которые отнеслись к ней, как к дочери. То были добрые, старомосковского склада люди, жившие на тогдашней окраине в деревянном доме с садом, неподалеку от станции метро «Сокол», конечной в те времена на этой первопроходной линии. Они выделили ей угол в комнате, служившей столовой, и аккуратно отгородили эту «девичью светелку» занавеской. Своих детей у них не было. Сам хозяин работал в каком-то лесном главке и, как догадался впоследствии Кортин, это по его, видимо, протекции отправился в южные края отец Дины.
Тот район у станции метро «Сокол», где она тогда поселилась, был ему хорошо знаком. И сопоставляя теперь свою жизнь и жизнь Дуни до пересечения их судеб, Кортин с интересом отмечал, что проходили они в том своем существовании довольно близко другу от друга, как в пространстве, так и во времени. Ибо и он прибыл в Москву в середине войны – вместе с матерью, из уральской эвакуации, по вызову отца. Произошло это на год раньше возвращения Дины. Отец его был тогда, после госпиталя, оставлен служить в газете Московского военного округа, и жили они в окружной гостинице близ станции метро «Сокол». То есть, жили там отец с матерью, а он вырывался сюда в увольнение из своего военного училища, в которое попал вскоре по приезде в Москву, когда его, семнадцатилетнего, призвали в армию. Но вероятность жизненного пересечения его и Дины в ту пору была минимальной. Они вращались на разных орбитах, и Вышнему астроному, ведающему расчетами людских судеб, еще предстояло эти орбиты свести.
Зато она быстро обрела в институте двух своих самых близких подруг – Фиру и Гиту. Сближение началось с эпизода в первые же недели занятий на первом курсе. В аудитории, где занималась их группа, стояли столы на двух человек. И Дина оказалась за столом с миловидной девушкой, которая в один из дней вдруг пересела от нее на другое место, к другой, тоже миловидной девице. Дина осталась за своим столом одна, и это одиночное сидение на какой-то момент отделило, обособило ее от всей группы словно парию. Но тут поднялась со своего места Фира и как ни в чем не бывало села рядом с нею. Фира уже дружила с Гитой, и эти две еврейские девушки стали подругами русской Евдокии.
Природные способности и прилежание вывели студентку Никольскую в число наиболее успевающих. Она даже сумела ускорить на полгода окончание института вместе с несколькими выпускниками, сдав на последнем курсе в зимнюю сессию все заключительные государственные экзамены. Она должна была полностью содержать себя, не рассчитывая на чью-то помощь, и спешила получить стабильную, сравнительно неплохо оплачиваемую работу.
Таким образом, вроде бы по случаю, сделалась она через четыре с половиною года редактором политической и художественной литературы, как это указывалось в выданном ей дипломе.
И в Воениздат она попала тоже через случай, ибо после окончания института не получила, как «вечерница», никакого распределения на работу. Месяца три-четыре она самосильно обивала пороги издательств и всяких редакционных отделов, куда ей советовали обратиться второстепенные служащие министерства высшего образования (наркоматы уже несколько лет как были переименованы в министерства). Ей везде отказывали, вежливо, но быстро – нет мест. Быть принятой на должность редактора без казенной бумаги, рекомендательного звонка или свойского знакомства оказалось невозможным. А в ее случае срабатывал и дополнительный фактор. Видимо, для начальников отделов кадров сдерживающим обстоятельством являлся также ее физический недостаток. Авторитетная идеологическая должность редактора в их сознании не сочеталась с внешней убогостью. И после тягостного и тщетного хождения, не имея больше средств к существованию, Дина Никольская пришла опять в министерство на прием к какой-то заведующей и попросила послать ее на периферию, лишь бы по официальному направлению, на определенное место и по своей приобретенной специальности. Бог с ней, с Москвой, коли так… И надо же было случиться, что именно в это время туда пришел служивший в Воениздате морской полковник Федор Изотович Резников, муж Нины Григорьевны. И пришел как раз с заявкой на двух-трех редакторов из институтских выпускников для работы в своем издательстве. Ему предложили Никольскую, он посмотрел на нее и – не отказался.
Возможно, история эта обрела в поздних пересказах, слышанных Кортиным в их компании, черты легенды с образом некоего благодетеля, а на самом деле все было проще: в министерство пришел воениздатовский представитель с заявкой, по которой и направили страждущего молодого специалиста, оказавшегося как раз под рукой. Там она и предстала перед Резниковым. Полковник, конечно, доложил старшему начальнику. И направление это с министерским штампом и чиновной подписью восприняли в дисциплинированном Воениздате как обязательное. Но так или иначе, поступление туда Дины всегда связывалось с именем Резникова, которого она за глаза с теплотой называла Изотычем…
А в беспредельном книжном океане возникла со временем капелька книг, в которых на самой последней странице, где петитом набираются выходные данные, значилось: «Редактор Никольская Е.А.»
Когда Кортин впервые появился в Воениздате, ее положение там уже вполне определилось. Она была на хорошем счету у начальства и пользовалась приязнью сослуживцев – добросовестный работник, скромный, добропорядочный человек. А авторам сам Бог велел быть почтительными с редакторами. Сейчас о том времени (когда и Бог в стране писался с маленькой буквы) живо напоминала надпись на тоненькой книжице стихов, сделанная поэтом-фронтовиком, который издавал тогда у них свой первый сборничек: «Евдокии Андреевне – с глубочайшим уважением к ней, спрятавшейся так ловко за воениздатовскими цветами. Да смягчат они горечь редакторской правки “чайников” и графоманов». Она не являлась редактором этого поэтического сборничка, так что подношение было сделано не по обязанности, а по очевидной симпатии. Что до упоминавшихся графоманов, то действительно после войны в писатели хлынуло много военного люда, в том числе в чинах, и Никольской также досталось редактировать их беспомощные рукописи. Сам же веселый даритель впоследствии стал поэтом известным, но к властям не подлаживался и издавался со скрипом…
Кортин помнил непривлекательный кирпичный дом старого казенного покроя, неоштукатуренный, без фасадных украшений, где помещалась в те годы часть Воениздата, и комнату с высоким потолком, видимо, большую, но перегороженную на отсеки-закутки канцелярскими шкафами, забитыми бумагами. Этакая учрежденческая коммуналка. В одном из таких отсеков, примыкающем к стене с окном, и работала редактор Никольская вместе с еще двумя дамами. Столы там стояли тесно, проходили к ним боком. Наиболее укромное место было и вправду у Никольской. И цветы на подоконнике, конечно, поливала она, а, должно быть, и развела сама эту оранжерею по любви к природе. На переднем же плане восседала приметная Софья Львовна Добина, вскоре ставшая Коньковой, тогдашняя издательская подруга Дины; она выпускала в свет первую книжку того поэта и вообще любила открывать новые имена.
Дата под его надписью стояла памятная – 1956 год. Год, когда началась «оттепель» взрывом секретного доклада Хрущева на самом знаменитом, но теперь тщательно замалчиваемом ХХ съезде партии. И всякий раз, отмечая эти ухищрения, Кортин вспоминал слова Дуни, сказанные уже во времена брежневских съездов, что для нее первым и последним съездом этой партии был тот один, двадцатый.
В хрущевском докладе, который потряс делегатов, вскрывались ужасающие беззакония Сталина, умершего три года назад. Речь шла о массовых репрессиях тридцатых-сороковых годов, проводившихся им под лозунгами борьбы с «врагами народа», но это осуждение никак не затрагивало основ всей созданной большевиками тоталитарной системы. Тут у Хрущева сомнений не было. Он винил только Сталина, извратившего своими злоупотреблениями властью великое дело Ленина, дело построения социализма, самого передового в мире общественного строя.
Потом этот доклад в виде «закрытого письма ЦК» стали читать, словно на дореволюционных большевистских сходках, всем членам партии, за ними – и беспартийным в их трудовых коллективах. Так правда о Сталине, на которого в СССР молились четверть века, правда о земном вседержителе, заменившем здесь Бога, двинулась в народ, вызывая в людях и раскрепощение, отверстость душ, и растерянность, и неприятие, злобное отвержение перемен.
К тому сроку Дина Никольская прошла уже свою стадию освоения редакторской работы. И самую важную для себя стадию жизненного становления. Как считал Кортин, все то, что было в ней заложено от рождения, что затем проросло и развилось в душе по мере ее взросления, – все это нашло здесь, в издательстве, свое жизненное м е с т о. Здесь была культурная по тем временам, нужная ей среда, здесь она занималась интеллигентным трудом, встречалась с известными авторами, и ее собственные ум, скромность, достоинство ценились и уважались. И в тот момент совсем не главным было даже, какие книги она редактировала, важна была сама эта работа с книгой, процесс общения со словом, с текстом. Ведь и в слабой книге находилось что-то хорошее. А отталкиваясь от слабых рукописей, быстрее вырабатывались свои строгие критерии и вкус.
Конечно, все они так или иначе исповедовали тогда «социалистический реализм» с его темами, героями, сюжетами, идеями и идеалами. То была среда их действительного духовного обитания, принимаемая за норму. Так они были воспитаны. Многим из них было еще далеко до понимания, что социалистическая идеология коварно подменяла в их сознании общечеловеческие ценности. Они честно верили, что социалистический путь – исторически закономерен, научно обоснован и подтвержден самой жизнью. А самым неопровержимым доказательством этого служила великая Победа СССР над фашистской Германией. Воистину, какая еще страна смогла бы вынести такое нашествие и победить! Как сформулировал Гений всех времен и народов: победил наш общественный и государственный строй. По этому поводу Кортин до сих пор вспоминал другую формулу, услышанную от одного молодого физика много лет назад, когда сам он, гвардейский старший лейтенант, был ею озадачен. В разговоре о победе в Отечественной войне тот физик, прервав его военные рассуждения, отчеканил: «Мы их не победили, а п е р е у м и – р а л и»…