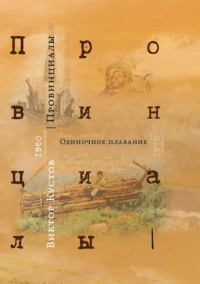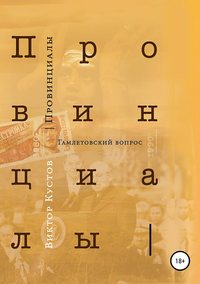Полная версия
Провинциалы. Книга 5. Время понимать
К визиту Жовнера, которого Балдин хорошо знал (в пору работы в «молодежке» квартировали вместе), он отнесся с вниманием. Хотя и считал, что последнее время некогда бывший одним из первых, кто понял капитализм и успешно вписался в новые условия, Александр утратил способность ориентироваться в нынешних, уже капиталистических переменах, начал себе в убыток выпускать мало кем востребованный журнал, помогал писателям, бесполезно тратя не только деньги, но время и силы.
Балдин выслушал Жовнера, поглядывая на часы и понимая, что за полчаса не сможет все равно передать ему всю премудрость бюрократического мира, которую тот (это стало видно с первых слов) совершенно не понимал.
– Мне все ясно, – наконец вставил он, когда Жовнер высказал основное, и перешел к собственной эмоциональной оценке случившегося. – Ты, Саша, пойми, несмотря на твои заслуги и деньги, ты, как и любой другой бизнесмен, для чиновника, даже самого мелкого, в лучшем случае – никто, так, статистическая единица. А в худшем – объект для стрижки купонов… Ты же никогда в номенклатуре не был…
– Был, – буркнул тот.
– Когда же? – удивился Балдин. – Я вроде всю твою биографию знаю.
– Когда ответственным секретарем работал…
– А, ну это не в счет. Это только числился… А я уже в новой России в старых кабинетах посидел…
– Красавин тоже сидел, а человеком остался…
– Ну, ты нашел пример… Красавин как был чужим, залетным в стае, так за пять лет ни черта и не понял, поэтому и вылетел… А между прочим, был бы погибче, не лез на рожон со своей демократией, не воевал с губернатором, и в этом правительстве ему место нашлось бы, как остальным…
– Слава богу, не все бесхребетные… Ты тоже вроде не усидел.
– Я тайм-аут взял… Придет и мое время. Только насчет бесхребетности не надо столь уничижительно… Знаешь, хребет-то как раз и не надо лишний раз демонстрировать, а то сломают… – Балдин снисходительно, давая понять, что в этих вопросах разбирается лучше, улыбнулся.
– А тебя, Вася, похоже, власть манит…
– Не власть. Возможности, которые она дает… Ты все эти годы, еще с перестройки, если не ошибаюсь, бизнесом занимаешься. Привык уже быть самостоятельным, ни от кого не зависеть… У тебя это получается, хотя понять, как ты умудряешься не разориться, я не могу.
Ничем не торгуешь, от бюджета не откусываешь, еще и журнал убыточный выпускаешь… Я вот пробовал, ты знаешь, но хорошо, вовремя одумался, не мое это… Рискуешь, ночами не спишь, ломаешь голову, на чем заработать, не знаешь, что завтра будет…
– Ну да, у раба все просчитано наперед…
– Меня-то ты к рабам не причисляй… – придал голосу выражение жесткости Балдин.
– Извини, естественно, это не на твой счет. У тебя проблем в этом кресле не меньше моего.
– Если не больше… Но другие… – Он многозначительно помолчал. – Вы, писатели, любите гротеск… Хотя, не спорю, бывают рабы и при власти: кто-то должен и машину подать, и чай с булочками по кабинетам разнести, и мелкие поручения исполнять… Даже у больших начальников рабское начало остается, ведь по ступенькам снизу поднимался… Но есть и те, для кого государство – это главное, такой будущее для всех выстраивает – для тебя, для детей наших… Да что я распинаюсь, ты же такого человека знаешь…
– Я уже больше пятнадцати лет бизнесом занимаюсь, и с каждым годом от этой заботы государства обо мне дышать все труднее… А что касается Красавина, ты сам сказал, что стая его не приняла, значит, не нужны такие…
– А таких, как он, должно быть большинство, а не меньшинство, как сейчас… Ну а что касается бизнеса, то в начале перемен предпринимателям многое позволили… И позволь дальше – государства уже не было бы… – Он опять снисходительно взглянул на Жовнера. Так смотрит борец сумо на наилегчайшего дзюдоиста. – Но мы так с тобой долго можем делиться мнениями… Ты же пришел за конкретным советом?
– Можно сказать и так.
– Только так, потому что, извини, Саша, но в газету твой конфликт тащить не будем. Ты вот уже седеть начал, пора понять: с государственной машиной, в которой эти самые чиновники, маленькие и большие, всего лишь винтики и шестеренки в одном механизме, ссориться себе дороже. И время, и деньги, а главное – здоровье потеряешь. А если вот так случилось, как у тебя с Духиной, надо прибегнуть к дипломатии. Во-первых, разобраться, в чем причина … Может быть, ты ей просто как мужчина не понравился, – Балдин усмехнулся.
– Хотя, я уверен, что это не так, она интеллигентов уважает… Но у женщины всякие причины могут быть. Не с той ноги встала, мигрень разыгралась… Но зная ее, более правдоподобно будет предположить, что причина в чьем-то мнении, донесенном ей…
– Каком мнении?.. Мы с ней из-за журнала раньше столкнулись, вот и запомнила…
– Если бы они все стычки запоминали, лечиться бы устали… Нет, кто-то, чье мнение для нее важно, плохо отозвался о тебе. Или о твоем журнале. Может быть, о друзьях… Кстати, ты с Красавиным поддерживаешь отношения?
– Конечно.
– И губернатору где-нибудь публично косточки перемывали?..
Жовнер помолчал, припоминая.
– Было как-то… С одной дамой из мэрии.
– Я не уверен, но допускаю, что именно это и стало причиной вашего конфликта. Красавин для нашего губернатора – враг номер один.
Ну и, естественно, его друзья тоже… А Духина не только подчиненная, она, еще с комсомольской поры, верный соратник губернатора.
– Не думаю, что моя личность столь значима для власти, – усомнился Жовнер. – Просто один юный сексот капнул ей о моей оценке кое-каких ее начинаний…
– Это может быть повод. Но, поверь мне, не причина… Чиновник такого ранга скоропалительных решений не принимает. Чему-чему, а осторожности и взвешенности и прежде, и сейчас в коридорах власти учат в первую очередь. Иначе не удержишься.
– Хорошо, допустим, ты прав. А что же мне делать, если ты публично, через газету, защищать себя мне не даешь?
– Да этим ты не защитишь себя, наоборот, усугубишь все… – Балдин подумал. – Ладно, давай я прозондирую, какая кошка между вами пробежала, а ты не лезь в бутылку. Поверь мне, с этой машиной воевать себе дороже…
Мудрый, однако, стал Балдин, подумал Жовнер, выходя из просторного кабинета главного редактора. Не по годам мудрый… И вспомнил, как тот говорил, что станет редактором. И стал.
А вот теперь, похоже, собирается в правительство…
…На следующий день Жовнеру позвонила Шепелева. На этот раз голос у нее был бодрый, заведомо уведомляющий о том, что новости будут хорошие.
– Александр Иванович, вы меня извините, что заставила вас поволноваться, – начала она заискивающим тоном. – Но я не так поняла, вы неправильно восприняли… Студенты о ваших лекциях очень высокого мнения, никто ничего менять не будет, программа утверждена… Одним словом, мы вас ждем на кафедре.
– Заседание кафедры?
– Нет, что вы, какое заседание… У вас занятия, вы не забыли?..
– О лекциях я помню.
– Вот и продолжайте читать…
– Хорошо, – подумав, сказал Жовнер. – Курс я отчитаю, но…
– Вот и замечательно, – перебила, недослушав, заведующая кафедрой и положила трубку.
Время понимать
Планируем.
Спешим, торопимся…
Когда впервые приходит осознание скоротечности времени?.. Наверное, у каждого в свой час…
В своем, уже прожитом отрезке жизни Жовнер отметил три точки, в которых Время напоминало о себе.
Первое осознание своего бессилия перед ним он пережил в детстве, когда вдруг узнал, что и он, и родители, и все старенькие люди, в том числе обе его бабушки, баба Таня и баба Марфа, и дедушка Иван Васильевич Потоцкий, рано или поздно умрут. Он носил этот страх в себе довольно долго, боясь с кем-либо им поделиться, это была настоящая тайна, которая перестала быть тайной, когда умер дед – сухонький, невысокий, сутулый, припадающий на ногу (отчего ходивший с неизменной, отполированной руками тростью и грозивший ею озорникам, если такие встречались на его пути). Он пролежал в больнице совсем недолго, однажды утром мать вдруг обрядилась в черное платье, повязала на голову черный платок и ушла в дом деда. И в этот день никто не загонял Сашку с улицы домой, он нагулялся досыта, а потом, не застав никого дома, голодный, пошел тоже к деду и увидел там много женщин, одетых в черное, молчаливых мужиков, куривших во дворе и на улице перед распахнутыми воротами, и, поев на кухне, заглянул в комнату, где дед в черном новом костюме лежал под горящей перед иконой лампадкой, а старичок в черном что-то непонятное монотонно читал, глядя в потрепанную книжку. И тогда Сашке так захотелось, чтобы дед встал и, опираясь на свою трость, вышел к мужикам, что он расплакался и убежал на улицу, а на следующее утро, когда отец вместо работы опять ушел в дом деда, велев ему прийти следом (мать совсем не ночевала дома), убежал на другую окраину города, к леспромхозовской конторе, куда иногда мать брала его с собой на работу, чтобы покормить в столовой, и прибежал к дому деда, когда все уже вернулись с кладбища…
Тогда он впервые осознал неумолимость Времени…
Потом это ощущение скоротечности настоящего, а вместе с тем и страх перед неизбежным уходом уступили место азартному освоению все расширяющегося познаваемого мира отношений, накалу новых чувств, желаний, страстей. Мгновения, наполненные этими ощущениями, стали казаться настолько длинными, что мысль о том, что можно не дожить до возраста деда или даже прожить значительно меньше, не пугала: сорокалетние (за исключением родителей) уже казались стариками, и представить себя в их возрасте было трудно, потому что до них еще была целая вечность… И в этой непрожитой вечности было столько неизведанного и манящего…
Вновь он вспомнил о неумолимом течении времени, когда был безмерно счастлив: любил и был любим, и они с Еленой наслаждались узнаванием друг друга. Была золотая осень, один из тех прозрачных чистых дней, когда природа щедро дарит свою зрелую, освобожденную от весеннего буйства, летних забот и созревших плодов красоту.
Было солнечное утро, их комната купалась в нежарких солнечных лучах. И они любили друг друга в солнечном свете, нисколько не стыдясь и ничего не скрывая друг от друга. Потом Елена поднялась с постели, прошла к окну, встав на носочки, потянулась, вскинув руки, и он задохнулся от чар, исходящих от совершенства ее тела, восхитился красотой его линий, чистотой, воздушностью и поймал себя на остром желании остановить это мгновение и остаться в нем навсегда. И до пронзительной тоски осознал: оно не повторится… Пройдут годы, и возраст изменит эти линии, воздушность сменится грузностью, да и он станет другим… И стало больно, как тогда, в детстве, оттого, что нельзя остановить мгновение, в котором ты приблизился к чему-то вечному…
Дни сменялись днями, годы убыстряли свой ход, не щадя никого из живущих, и он незаметно перешагнул тот, сорокалетний, казавшийся когда-то недостижимым, рубеж, и вновь вернулась горечь бессилия перед временем. Это был кризис среднего возраста. То, что противостоит переходному возрасту. Только уже с другим вектором. Тогда он поднимался в гору, веря, что до вершины еще далеко, теперь уже начал спускаться…
И, похоже, просмотрел вершину, к которой так стремился… А на смену «еще успею» все чаще стало выговариваться «если успею»…
Многолетний устоявшийся образ жизни, привычные отношения вдруг перестали удовлетворять… Большие и маленькие увлечения, которые прежде радовали, утратили способность заряжать. Поубавилось страсти, уменьшилось рабочего азарта, стали чаще приходить мысли о пройденном перевале, после которого впереди уже заведомо меньший отрезок того, что остался в прошлом… И трудно было понять, хорошо это или плохо, правильно или нет… Вновь вернулся страх перед неизбежной конечностью пусть и не столь молодого, но все еще сильного тела. И обида невесть на кого, что может не хватить времени, чтобы реализовать задуманное, израсходовать накопленный опыт… И было непонимание: как? неужели почти полвека он живет на этом свете? Душой он совсем не чувствует груза лет, хотя тело вдруг стало напоминать о себе болячками… От этого расхождения, раздвоенности души и тела можно было спрятаться, выпив рюмку-другую, тогда тело, как и душа, становилось на какое-то время легким, и он стал прибегать к этому лекарству, все уменьшая и уменьшая разрыв между приемами анестезирующего память снадобья, пока однажды не осознал, что тем самым еще более ускоряет отпущенное ему время жизни и безжалостно предает беспамятству стремительно уходящие дни, оставляя себе все меньше шансов завершить то, что начал, и сделать то, что позволяет сделать его опыт…
И испугался.
А испугавшись, перестал убегать от себя и воевать с всесильным Временем. И осознал, что это наступает время понимать.
Понимать жизнь, себя, мир, свою роль в этом мире.
И того, кто все это создал…
… Сотрудники автоинспекции все не ехали.
Механическое стадо накатывало светофорными волнами и стремительно обтекало их побитые машины. И каждый сидящий за рулем, проносясь мимо, несомненно прикидывал, как угораздило этих бедолаг не разъехаться, отделяя себя от случившегося, считая, что просто кто-то из двоих пострадавших лопухнулся, а уж с ним такого никогда не произойдет…
Говорят, в Индии никаких правил дорожного движения нет.
Жовнер в Индии не был, но от знакомых слышал об особенности тамошних водителей умудряться ездить без правил и без аварий…
А в Германии наоборот – все живут исключительно по правилам…
Удивителен и разнообразен мир Пространства.
Но еще более удивителен мир Времени.
Так вот, похоже, когда наступает время понимать.
Понимать Время.
Прошлое и настоящее.
Всесильна и загадочна эта субстанция.
Все в мире имеет начало и конец (кроме бесконечности и окружности).
Одно противостоит другому: верх – низ, плюс – минус…
А вот время не течет вспять, хотя этого хочется более всего.
Но ведь если есть мир Прошлого, есть Настоящее и представления о Будущем и настоящее является точкой отсчета, должна же быть, нет, обязательно существует возможность узнать и вновь прожить Прошлое… Те же писатели-фантасты уже давно освоили путешествия во Времени…
И разве не переживаем мы прошлое, когда становимся дедушками и бабушками?..
В начале нового века у Светланы родилась дочь. Александр с Еленой долго не могли привыкнуть к своему новому статусу. Радовались маленькому человечку с удивительно пронзительными глазами, изучающими их и, казалось, знающими неведомое или забытое ими, нянчились (как когда-то с ними? трудно поверить, что и они были маленькими), постепенно вводя маленького человека, новую душу в мир, о котором сами уже не думали, что он так хорош, как внушали новорожденной…
Вот, смотри, какая зелененькая травка…
А это такой красивый цветочек....
Листик желтый и звонкий…
Холодные снежинки, правда, девочка?..
И взгляд внучки с каждым днем взросления становился не столь пристальным, утрачивая пугающую проницательность сокровенного знания.
Зато получались: первая улыбка, первое «агу», первые шаги, первые слова…
И однажды Жовнер, теперь уже дедушка, вдруг понял, что, в сущности, наблюдая этого человечка, он переживает свое прошлое… Так же когда-то вводили его в этот мир мать и отец и его бабушки и дедушка, пусть в другом месте, в другое время, но ведь все было так же…
И вот теперь девочка Софья, в которой есть что-то и от него, повторит его путь познания этого мира и себя… Не с детьми – именно с внуками возвращается прошлое. Жизнь детей проходит параллельно: ты еще молод, полон амбиций, нерастраченной энергии и азарта, ты еще способен тратить свою любовь на второстепенное, занят собой и, как правило, совсем не знаешь, чем живет твой ребенок… Вот чем жила его дочь?.. Что он мог сейчас вспомнить из ее прошлого?.. Кое-что из поры ее детства: катание на санках или поездки в цветущую степь… Потом тревога: как бы чего не случилось в этом магнитом притягивающем ее дворе… Подростковую строптивость, когда непонимание собственной дочери дошло до высшей точки, после которой она совсем отдалилась, стала жить своей жизнью. Из-за страха за нее заставляя ее жить по своему распорядку, он тем самым еще более отдалял ее… Впрочем, у него есть оправдание – юность дочери выпала как раз на время перемен…
Хотя какие могут быть оправдания, когда речь идет о другом человеке, о другой душе… За то, что заняты были собой, их поколению и нести крест вины перед собственными детьми…
Но не только вина перед детьми заставляет нас не жалеть время на внуков. На самом деле мы вновь пытаемся прожить собственные рождение, детство, юность… И даже зрелость многим дано повторить. Вот только старость проживается каждым всего один раз…
…Эк тебя занесло, Александр Иванович…
Девица все еще говорила по телефону, у нее, наверное, немало тех, кому она должна была сообщить новость.
Все так же накатывал и обтекал их ревущий спешащий вал.
Ничего более не оставалось, как вспоминать прошлое…
Черное и белое
Желаемое, если оно не надуманное, конечно, сбывается. Но вот у каждого в свой срок. У кого-то – не успеет и пожелать, а у кого-то уже и забудет, да вдруг – нате вам… У Жовнера (он это заметил, когда перевалил свои полвека) желаемое сбывалось всегда со значительным запозданием. И приходило не тогда, когда он страстно этого хотел, страдая и торопя время, а когда остывал, успокаивался и готов был принять некогда желаемое, как радующее, но уже не вызывающее хвастливой гордости событие.
Первую книжку он хотел издать в Красноярске к своему тридцатилетию, как раз, как он считал, сложилась вполне приличная. Но не получилось. Когда стал участником Всесоюзного совещания молодых писателей СССР (где встретился с Баяром Согжитовым: надо же, двое из Иркутского политеха, из «Хвоста Пегаса» на таком форуме!) и его рукопись была рекомендована и в журнал, и в издательство, казалось, желаемое осуществилось… Вот они – публикации, книжка – и он член Союза писателей. У Баяра действительно скоро вышел сборник стихов, и он реализовал свою мечту, став членом творческого союза, а у Жовнера все не складывалось.
Наконец не в столичном – в краевом издательстве вышла первая долгожданная книжка, но уже началась перестройка, перемены, появились иные манящие ориентиры. Жизнь стала походить на увлекательный роман, ее гораздо интереснее было проживать, чем сочинять, и он жил, и совсем не тянуло к письменному столу…
Думал, никогда больше и не потянет, но ошибся. Когда новизна событий, отношений, ценностей, привнесенных из капиталистического загнивающего, но пока не загнившего Запада, невиданное при социализме изобилие товаров перестали кружить голову, вновь стало интересно сводить разрозненные впечатления, находить тайную и истинную логику перемен. Но теперь остались в прошлом не только рецензенты, редакторы, цензоры и гонорары, теперь он сам мог издавать свои книги, не думая, понравятся ли они еще кому-то, кроме него. И он издал, не ожидая поощрения и славы, но члены урезанной и утратившей привилегии и свою привлекательную недоступность, но все же сохранившейся писательской организации стали убеждать его в необходимости вступления в свой профсоюз, все еще веря, что вернется его былая мощь.
Он задал тогда немыслимый прежде вопрос: а зачем ему красная корочка этой организации?.. В Советском Союзе удостоверение члена Союза писателей СССР давало немало материальных благ. Прежде всего, возможность регулярно выпускать книги, получать гонорар за них и выступления выше, чем у не членов Союза. Кроме того, оно давало право отдыхать на творческих дачах, включая знаменитое Переделкино, и в санаториях, принадлежащих писателям. Член союза к тому же имел право на дополнительную (для рабочего кабинета) жилплощадь.
Наконец, это была узаконенная возможность не ходить ни на какую службу, а быть свободным человеком.
Да и почет, уважение, которым пользовались писатели и в народе, и у власти, значили немало.
В новой России творческие союзы приравняли к любительским обществам. Многотысячная армия профессионалов, мастеров слова, вдруг оказалась никому не нужной: вал переводной литературы хлынул из-за рубежей уменьшившейся в размерах страны, удовлетворяя давнюю склонность ко всему заграничному, запретному. Жовнер сам кинулся утолять интеллектуальный голод, не уставая повторять, что доступность к любой информации и есть самое главное приобретение нового времени, потому что в пору жадной на знания юности вместо оригинальных произведений зарубежных, да и доморощенных, но запрещенных авторов ему приходилось читать лишь критику на них.
Желание иметь писательское удостоверение (и пользоваться привилегиями) осталось вместе с большой страной в прошлом, но тем не менее он поддался уговорам, вступил в союз, отдавая себе отчет, что, хочет того он или нет, его жизнь неотделима от этой профессии.
Тем более теперь, с появлением литературного журнала, который он редактировал и издавал.
Первое впечатление об «инженерах человеческих душ» он сложил в Иркутске, когда Борис Иванович Черников вдруг решил их с Баяром Согжитовым ввести в круг умных и снисходительных собеседников.
Это были семидесятые годы, имена Александра Вампилова и Валентина Распутина уже были известны заядлым театралам и читателю. Вместе с ними и иркутская писательская организация продвинулась по шкале профессионального уважения, встав вровень с вологодской, где в это время так же на всю страну звучали имена Николая Рубцова, Владимира Солоухина, Виктора Астафьева.
Вечер в доме писателя-фронтовика Дмитрия Сергеева, мудрого в своей неторопливости и знающего гораздо больше, чем говорил, прозаика, отложился в памяти на всю жизнь. Как и образ хозяина дома: невысокого, приветливого и по-учительски внимательного, умеющего слушать и знавшего, пережившего то, что им, молодым, было неведомо. Много позже, когда вышла книга Виктора Астафьева «Прокляты и убиты», вызвавшая и похвалу, и ругань, этот давний вечер вновь вспомнился, сделав понятным непонятый тогда диалог Сергеева и Черникова. Черников настаивал, чтобы в новой повести Сергеев рассказал всю правду о войне: о подлецах ворах, казнокрадах, которых и на фронте было немало; о бессмысленных жертвах по вине бездарных командиров; о круговом жестокосердии… А Сергеев, кивая головой в знак согласия: «Да, это все правда, так и было, шли агнцами на заклание», не соглашался, объясняя это тем, что чем более страдало тело, тем сильнее был дух… Хотя, конечно, не все выдерживали, и от болезней, холода и голода в начале войны умирало людей не меньше, чем в бою. Но ведь оставались самые сильные духом, оттого и победили…
Юношеские впечатления от общения с писателями были эмоциональными – признанные мастера слова казались ему то интеллектуальными снобами, занятыми исключительно собой, то консервативными стариками (хотя из знакомых поэтов многие были ненамного старше него), что вполне объяснимо: он тогда был учеником низшей ступени в школе постижения силы Слова, а незнание способствует неадекватной оценке собственного «я»…
В Красноярске Жовнер ни с кем из тамошних именитых в крае писателей познакомиться не успел: его пребывание в этом крупном промышленном, рабочем городе было коротким. Что же касается зональной конференции молодых авторов, в которой довелось принять участие, то она его разочаровала. То, что писали другие ее участники, показалось ему скучным и уже читанным-перечитанным, а его рассказы (кроме одного, который он прочитал вслух) никто из руководителей семинаров не читал, хотя сборник ими и был рекомендован для издания. Дебаты же, последовавшие после прочтения им рассказа, разделили аудиторию и соответственно, мнения: от девичьего обожания и шептания на ушко о гениальной смелости до обвинений в непонимании, о чем следует писать, и советов оставить всякую надежду на признание…
Писатели Карачаево-Черкесской автономной области, входящие в один большой Союз писателей СССР, тем не менее делились на национальные секции и писали на родных языках. Русской секции не было.
Пишущие на русском языке формально относились к краевой организации писателей. В литобъединении при обкоме комсомола, руководителем которого какое-то время Жовнер числился, были и карачаевец Юсуф Созаруков, и черкес Хызир Шемирзов, и еще несколько ребят из национальных меньшинств, которые писали на русском языке. Но им до вступления в профессиональный союз было далеко.
В восьмидесятые годы Ставропольскую краевую организацию возглавлял Иван Кашпуров, уроженец одной из степных станиц, соответствующий и характером, и поведением традициям здешних мест: не лез на рожон с инициативой, чутко улавливал политические веяния и использовал их для укрепления своего положения, а попутно и организации. Это был невысокий и внешне не очень заметный человек, более похожий на агронома или сельского учителя, чем на писателя. Во всяком случае, таким он показался Жовнеру со стороны, близко познакомиться не довелось. Но стихи он писал крепкие, не без пронзительных откровений, хотя не избегал идеологических тем, соответствующих партийным лозунгам. Поэтические сборники в столице и крае издавал регулярно, получая гонорары по высшей шкале, отчего имел немало недоброжелателей и даже врагов. Но был недосягаем для них, являясь кандидатом в члены бюро крайкома партии и, по слухам, открывая дверь кабинета первого секретаря крайкома ногой (то есть был на равных).