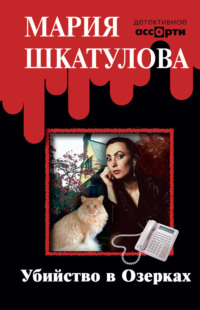Полная версия
Виза на смерть
– Ну так поторопи его, пусть побыстрей сделают, – проворчал полковник, – меня уже достали с этим Сапрыкиным… Что еще?
– Еще в бардачке обнаружена интересная газетка «Спид-инфо». На странице, где предлагают телефоны девочек и прочих интимуслуг, несколько номеров обведены черным фломастером. А в самой газетке завернуты фотографии соответствующего содержания…
– Порнография, что ли? – перебил полковник, поморщившись.
– Она, родимая. Только не с девочками, так сказать, а с мальчиками…
– Так он голубой?
– Откуда ж мне знать, Олег Иванович? Вот получим отчет судмедэксперта, тогда что-то, может быть, и прояснится…
– А что по этому поводу говорит жена?
– Жена в больнице с гипертоническим кризом. Я у нее сегодня был – задал несколько вопросов. А потом меня оттуда выставили. Врач говорит, с ней можно будет побеседовать только завтра.
– Стало быть, завтра и побеседуешь.
– Я, конечно, готов, только она не в себе. Про «Спид-инфо» говорит, что ее муж никогда таких газет не читал, а про остальное вообще говорить не может – только повторяет: «Если бы не лифт, если бы не лифт…» Я от нее еле добился, куда они собирались ехать.
– И куда же?
– На пятидесятипятилетие к господину Гришакову…
– Что за Гришаков?.. – полковник наморщил лоб. – Знакомая фамилия…
– Владелец крупнейшей сети агентств по продаже недвижимости. И между прочим, бывший дипломат, коллега и друг Сапрыкина.
– А при чем тут лифт?
– Она застряла между вторым и третьим этажом, когда спускалась. Правда, просидела очень недолго, минут пять – семь, я в диспетчерской проверил – они подтверждают. А сигналил он ей за минуту до того, как она вышла из квартиры.
– А ты спросил, что было с лифтом? Может, его кто-то нарочно – того…
– Спросил. Говорят, этот лифт в четвертом подъезде барахлил еще с лета.
– А монтеры? Может, они чего видели?
– Нет. Они шли из диспетчерской – это справа от подъезда. А машина стояла слева, в стороне.
– Все равно, надо узнать, не болтался ли в подъезде кто-нибудь посторонний… Консьержка в доме есть?
– Нет.
– Н-да… – полковник почесал подбородок, – что ж, получается, убийца сел к нему в машину и выстрелил, пока жена была в лифте?..
– Выходит, так.
– Все?
– Пока все.
– Ну, – полковник обвел присутствующих сердитым взглядом, – какие будут соображения?
– Этот ожог у него на лице… – проговорил Сурин и замолчал, будто не решаясь высказать мысль до конца.
– Ну? Что – ожог?
– Не нравится он мне…
Все улыбнулись, а кто-то даже хихикнул вслух. «Не нравится мне» – было любимым выражением Сурина.
– Ты поконкретнее не хочешь высказаться? – спросил полковник.
– Может, и хочу… – неопределенно отозвался Сурин. – Я вот спрашиваю себя – зачем убийца это сделал? Если бы он хотел его изуродовать, чтобы затруднить опознание, то облил бы все лицо…
– А если он не успел?
– Неважно, успел или нет, потому что цель-то у него все равно была другая.
– Другая?
– Какой смысл уродовать лицо, если жертва сидит в собственном автомобиле возле подъезда собственного дома и ждет собственную жену, которая так и так его опознает, изуродован он или нет?
Все помолчали.
– Это ты верно заметил, – проговорил полковникЧто-то еще?
– Не знаю, – пожал плечами Сурин, – мне почему-то кажется, что это сделала женщина… может, я, конечно, ошибаюсь, но как-то это не по-мужски… И еще… что-то тут есть такое… сам не пойму – что именно…
Сурин замолчал и мрачно уставился в одну точку.
– Ну? Все сказал? Какие еще будут соображения?
Все молчали.
– Понятно. Никаких. Веселая история, ничего не скажешь.
– Олег Иванович, – начал Лобов, – подождем результатов экспертиз. Надо понять, что там с пальцами. В любом случае, на заказ это не похоже – слишком все непрофессионально.
– А на что, по-твоему, это похоже? Мотив, хоть какой-нибудь, можно предположить?
– Пока нет.
– Заместителем министра его назначили недавно, так?
– Да, в начале августа.
– Так, может, он кого обошел?
– Может, и обошел, но что ж вы думаете, из-за этого мочить? Это ж все-таки дипломаты, а не какие-нибудь там…
– Сказать тебе, что я думаю? – рявкнул полковник. – Я думаю, если это не заказное убийство, то убили его или из ревности, или из корысти, или из карьерных соображений. Так что берите ноги в руки и срочно выясняйте: ходил ли в казино, имел ли долги, не получал ли наследство, кто еще претендовал или мог претендовать на его место, бегал ли по девочкам или – тьфу! – по мальчикам, черт бы его побрал… Вообще, в том, что говорит Сурин, что-то есть… Может, действительно, баба? А если он голубой и у него ревнивый любовник, так это то же самое… – Полковник опять поморщился. – По телефонам этим газетным пройдитесь… Но прежде всего идите в МИД, говорите с людьми, ищите друзей, врагов, сплетников. И во дворе еще раз поработайте. Не верю я, чтобы не нашлось ни одной старушки, которая бы чего-нибудь да не видела… И к жене – завтра же. Спросите, кто мог знать о том, что они собираются в гости. И самого – как его, Гришаков? – тоже потрясите хорошенько… И завтра же доложите. На сегодня все.
5
Не так уж много лет прошло с тех пор, как обитатели большого ведомственного дома на Брянской провожали Василия Демьяновича и Валентину Георгиевну Шрамковых почтительными, а то и завистливыми взглядами. Каждое утро Василий Демьянович со строгим лицом выходил из подъезда, не замечая сидящих на лавочке старушек – такие старушки откуда-то берутся даже в дипломатических домах, – и погружался в служебный автомобиль, увозивший его в высотку на Смоленскую площадь.
Часом позже на работу отправлялась и Валентина Георгиевна – в добротном сером или темно-синем костюме, со строгой прической и небольшим дамским портфелем в руках. Она сворачивала под арку и шла к метро, так как, несмотря на высокое положение Василия Демьяновича, члены семьи служебной машиной никогда не пользовались.
Сын Шрамковых, Виктор Васильевич, жил в соседнем подъезде того же дома со своей семьей и тоже работал на Смоленской, но в отличие от отца ездил на собственной светло-бежевой «Волге», стоявшей в подземном гараже в дальней части двора. Злые языки в МИДе утверждали, что своей успешной карьерой Виктор Васильевич был обязан авторитету и высокой должности Шрамкова-старшего, так как ни умом, ни способностями отца он не обладал. Старушки же в профессиональных достоинствах мидовских сотрудников не разбирались и кланялись Шрамкову-младшему с таким же почтением, как и его отцу.
Часов в одиннадцать во дворе появлялась Ольга, невестка, вывозившая на прогулку новорожденного сына в красивой заграничной коляске.
Еще у Шрамковых была дочь Женя, школьница. Старушки про нее говорили, что она шалапутная и что в семье не без урода, и когда она проносилась мимо них по двору, осуждающе качали головами.
Первый удар по благополучию семьи судьба нанесла в конце 1991 года, когда Василия Демьяновича отправили на пенсию. Весь МИД перешептывался, передавая из уст в уста подробности декабрьской коллегии, на которой новый союзный министр, получивший назначение в качестве приза за отказ признать ГКЧП, в пух и прах разнес Василия Демьяновича и еще нескольких старейших работников министерства, поддержавших путчистов. «Пропуска на стол! Освобождайте кабинеты!» – орал он, брызжа слюной, и поговаривали, будто уволенный среди прочих посол Свенцицкий, выйдя из зала заседаний, истерически расхохотался на глазах у изумленного кэгэбэшника, дежурившего на этаже.
Василий Демьянович вернулся в департамент, попрощался с подчиненными и отправился домой. Наутро, раскрыв газету, обнаружил фельетон на целую полосу, в котором скандально известный журналист Семен Хинштам обвинял ряд видных советских дипломатов, в том числе Шрамкова, в сотрудничестве с НКВД-КГБ, начиная с приснопамятных времен Андрея Вышинского.
С тех пор служебная машина больше уже не ждала его у подъезда в девятом часу утра. Выражение лица у него оставалось по-прежнему строгим, но теперь, выходя из дома, он иногда здоровался, и старушки хором отвечали, дружно кивая: «Здравствуйте, Василий Демьянович, доброе утро!»
В том же году, переживая за мужа, вышла на пенсию и Валентина Георгиевна, хотя могла бы еще работать и работать – она считалась хорошим специалистом в области трудового права – да и возраст позволял: она была на двенадцать лет моложе супруга. Но дело решили два обстоятельства: дочь Женя, которой к тому времени едва исполнилось семнадцать, несмотря на протесты родителей, бросила школу, сняла комнату и жила отдельно, а оставлять мужа одного в огромной пустой квартире Валентина Георгиевна не хотела. Кроме того, подрастал внук Сашенька, и чтобы дать возможность невестке защитить диплом, заботу о нем ей пришлось частично взять на себя.
По утрам Василий Демьянович гулял с внуком, и Валентина Георгиевна знала от Саши, что ходили они всегда по одному и тому же маршруту – через площадь Киевского вокзала и дальше по набережной, откуда хорошо просматривалась высотка на Смоленской. «Тоскует отец, – жаловалась она сыну, – ты бы зашел, поговорил».
Виктор Васильевич с семейством являлся в выходной, и они с отцом надолго закрывались в кабинете, а Валентина Георгиевна, хлопоча с Ольгой на кухне, время от времени прислушивалась к глухому голосу сына, пересказывающего последние новости с дипломатического фронта. «Что рассказывал Витя?» – робко интересовалась она после ухода детей, пугаясь молчания и мрачного вида Василия Демьяновича, но тот только хмурился и махал рукой. Видно, новости были неутешительные.
Прошло несколько лет. В 1996-м сменился очередной министр, и Валентине Георгиевне стало казаться, что муж начинает более или менее свыкаться со своим положением. Он стал лучше выглядеть, лучше есть и хорошо спать, по-прежнему много занимался с внуком, и один раз за семейным обедом она с удовольствием услышала, как он одобрительно высказался в адрес нового руководства. Тогда же, после долгого перерыва Василий Демьянович начал встречаться с бывшими коллегами по министерству, вышедшими или, точнее, уволенными на пенсию одновременно с ним.
К тому, что сын рано или поздно отправится в командировку, старики были готовы, но когда Виктор объявил, что через месяц уезжает, оба расстроились. Василий Демьянович лишался общества внука и возможности по воскресным дням поболтать с сыном о политике и новостях министерской жизни, а Валентина Георгиевна со страхом думала о муже, опасаясь возвращения его прежнего мрачного настроения. «Поговорил бы ты с Женей, – просила она сына, – вы уедете – что будет с отцом? Уговори ее вернуться». Но Виктор только раздражался: «Если вы не смогли призвать ее к порядку, когда это было еще возможно, что ты сейчас-то от меня хочешь? Она меня ни в грош не ставит».
Это было правдой. Валентина Георгиевна вспомнила, как однажды, во время какого-то спора, который вышел между ним и пятнадцатилетней Женей, Виктор заявил: «Таких, как ты, надо сажать, потому что вы – враги системы». – «Чего же ты ждешь? – усмехнулась Женя. – Донеси на меня». – «Надо будет, и донесу», – бросил в ответ Виктор, и Валентина Георгиевна никогда не могла забыть презрительный взгляд, который Женя бросила на брата. «Никогда, никогда они не помирятся, – думала она ночами, лежа без сна в своей постели, – что-то мы упустили, что-то сделали не так…»
В феврале старики проводили сына с невесткой и семилетним внуком в Нью-Йорк и остались одни. «Ничего, – говорила Валентина Георгиевна, робко заглядывая мужу в глаза, – время идет быстро, а Сашенька пока выучит английский язык… Да и для Вити хорошо переменить обстановку, а то он последнее время что-то совсем закис». Василий Демьянович молчал – он-то хорошо знал, почему не клеится карьера у его сына. «Ему бы Женькину голову», – думал Василий Демьянович и хмурился, как бывало всегда, когда он вспоминал о дочери.
Через два года Виктор Васильевич приехал на несколько дней в Москву. Привез подарки и два альбома с фотографиями, чтобы старики могли полюбоваться нью-йоркской квартирой, черным «бьюиком» и повзрослевшим внуком. «Мультфильмы смотрит по-английски и все понимает», – удовлетворенно хмыкнув, сказал Виктор Васильевич. «Сам-то ты как? – спросила мать, тревожно оглядывая сына, – что-то ты похудел… и вид у тебя какой-то… нервозный». – «Со мной все в порядке, мама», – отозвался Виктор Васильевич, и она почувствовала в его голосе легкое раздражение.
А еще через четыре дня тело Шрамкова-младшего с пулей в голове и ожогом от соляной кислоты на лице было обнаружено в сорока километрах от Москвы на обочине проселочной дороги в глубоком снегу. Ни родители, ни коллеги убитого не смогли ответить на вопрос, куда он отправился, уехав утром из дома, и тем более как очутился на Савеловском направлении, и следствие вскоре зашло в тупик.
Смерть Виктора, увы, не стала последней в череде бед, обрушившихся на стариков. Через три дня после похорон невестка Ольга заявила, что возвращается с Сашенькой в Америку и просит впредь не беспокоить ни ее, ни ее сына, а в качестве компенсации оставляет им свою трехкомнатную квартиру в полную собственность. И уехала на следующий день, даже не простившись.
И наконец, Женя, к которой вскоре после похорон Валентина Георгиевна отправилась выплакаться, а заодно уговорить вернуться домой, преподнесла очередной «сюрприз» – собралась родить ребенка без мужа. «Женя, Женечка, как же это ты?» – плача, повторяла Валентина Георгиевна, с ужасом глядя на выступающий дочерин живот, будто это был не живот беременной женщины, а воровское клеймо.
И только через год, когда Маше было уже девять месяцев и старики приехали и упросили Женю перебраться к ним, в квартиру на Брянской начала постепенно возвращаться жизнь.
6
На десятичасовое совещание у полковника Богданова Сурин опоздал.
– Та-ак… вот и пропавшая грамота явилась, – проворчал полковник, вперив в Сурина проницательный взгляд. – Я уж вижу… Нет-нет, ты садись, потом выскажешься. – И повернулся к Лобову: – Давай, Юра, продолжай.
Лобов откашлялся.
– Так, значит, на фотографиях с порнухой сапрыкинских пальцев нет. Черного фломастера, которым обведены телефоны, ни в его квартире, ни в кабинете, ни в машине обнаружить не удалось. Его ближайшие сотрудники в один голос утверждают, что фломастеры он терпеть не мог и пользовался только своим «паркером» с золотым пером, который мы и нашли во внутреннем кармане пиджака. Вообще, в МИДе о нем отзываются как об исключительно порядочном человеке. Досуг всегда проводил у всех на виду, на даче – мангал, теннис, костерок и прочее. И между прочим, Гришаков, к которому Сапрыкины собирались в гости по поводу пятидесятипятилетия последнего, чуть меня не прибил, когда я намекнул на возможные гомосексуальные наклонности его друга…
– А этот Гришаков, между прочим, сам-то где был во время убийства?
– У Гришакова, Олег Иванович, алиби, подкрепленное показаниями практически нескольких десятков человек.
– Ладно, давай дальше.
– Так вот… о связях. Тот же Гришаков утверждает, что Сапрыкин имел любовницу, молодую женщину, сотрудницу министерства, э-э… – Лобов перевернул страницу блокнота, – фамилия ее – Зайцева Лидия Михайловна… и что у них ребенок, шестилетний мальчик.
– Так-так… – отозвался полковник.
– Тут нам, Олег Иванович, похоже, ничего не светит. Эта Зайцева второй месяц находится в командировке за границей, а именно в Бельгии. По словам Гришакова, она уехала вскоре после некоторого конфликта с Сапрыкиным, который никак не мог решиться бросить свою жену… – Лобов кашлянул. – В отличие, кстати, от самого Гришакова, у которого жена… гм… кх-кх… так сказать, совершенно новенькая, – Лобов улыбнулся, – и, прямо скажем…
– Про баб захотелось поболтать? – поднял глаза полковник. – Ну что ж, давай.
– Да ладно, это я так. Уж больно красивая – ноги от ушей растут.
– Представляю, – буркнул Богданов. – Ладно, ловелас, давай дальше.
Лобов слегка пожал плечами.
– Да, собственно, это все.
– Нет, не все. Этой Зайцевой надо заняться. Может, у нее был ревнивый любовник, который мстит Сапрыкину? И потом, я же просил собрать всю возможную информацию о его служебной деятельности, и в частности, принимал ли он какие-то кадровые решения, которые могли кого-нибудь сильно не устроить? И не перешел ли он кому-то дорогу – я имею в виду его назначение.
– Олег Иванович, мы уже начали все это проверять…
– Вот и проверяйте. И как можно скорей. А свидетельские показания? В доме Сапрыкина что-нибудь нарыли?
– Свидетельские показания очень разноречивые. Сосед, живущий в третьем подъезде, рядом с которым стоял сапрыкинский «опель», видел мужчину около машины, но не видел, чтобы он в нее садился или выходил из нее. Говорит, стоял неподалеку и оглядывался, как будто высматривал кого-то. Описать его толком не смог – говорит, не разглядел. А бабулька из того же подъезда утверждает, что видела, как в машину садилась женщина. Однако сказать, была ли это его жена или какая-то другая, не может, так как она близорука, а в тот момент была без очков.
– Так она когда ее видела-то?
– Неизвестно. Говорит, вечером – подошла к окну полить цветы. В котором часу – не помнит.
– Описать ее, конечно, тоже не может?
– Нет.
– Да-а… плохо… Судя по ожогу на лице и по тому, что порнуху ему явно подбросили, чтобы скомпрометировать, похоже, действовала женщина… – Богданов постучал пальцами по столу и повернулся к Сурину: – Ну? А у тебя что?
Сурин едва заметно усмехнулся.
– У меня новость.
– Надо думать, приятная? – скривился полковник.
– В некотором смысле, – мрачно отозвался Сурин.
– Докладывай.
– В январе девяносто девятого выстрелом в голову был убит некто Шрамков Виктор Васильевич… Между прочим, сотрудник МИДа. Так вот, у него на правой щеке тоже был ожог кислотой.
– Та-а-ак… Где ты это нарыл и почему вчера ничего не сказал?
– Этим делом занималась областная прокуратура… а у меня там дружок, бывший однокурсник, Миша Панкратов. Он мне тогда об этом рассказывал так, вскользь, поэтому я вчера и не вспомнил. А сегодня ночью меня как стукнуло…
– Так ты сегодня-то с ним говорил, с Панкратовым твоим?
– Ну да. Я потому и опоздал.
– Давай выкладывай.
– Труп несколько дней пролежал в снегу у проселочной дороги в сорока километрах к северу от Москвы… Тому, кто его перевез, шибко повезло – в те дни был сильнейший снегопад, и дорогу занесло так, что никаких следов местные сыскари не нашли. И что самое интересное, этот Шрамков жил в том же доме на Брянской, что и Сапрыкин…
– Хорошенькая история, – проворчал полковник, – что еще?
– Кое-что есть. Убит он был из пистолета Макарова. Богданов помолчал.
– Что ж, дело ясное… Теперь Сапрыкина у нас заберет ФСБ.
– Почему, Олег Иванович?
– Да потому, что тут пахнет уже не женщиной, а кое-чем похуже!
Богданов обвел присутствующих недовольным взглядом.
– Значит, так. Пока его у нас не забрали, извольте работать. Во-первых, срочно поднять дело… как ты сказал, его зовут? Шрамков? Поднять дело Шрамкова и сверить результаты экспертиз. Ты, Юра, сегодня опять прямиком в МИД – выясняй, что между убитыми Сапрыкиным и Шрамковым было, так сказать, общего – командировки, или что-то на личной почве, или общий бизнес – может, у жен?.. Ну и прочее. Может, они были завербованы?.. Ну да это не наша епархия… И еще, – полковник повернулся к Сурину, – выясни, кто там остался в семье у этого Шрамкова? Жена, дети – не знаешь?
– Про жену не спросил, а вот отец его, между прочим, – бывшая шишка в МИДе.
– Тем лучше. Значит, так. Сперва в МИД, а потом к Шрамковым. Побеседуйте, только смотрите, повежливее и поосторожнее.
Лобов кивнул.
7
В большой четырехкомнатной квартире Шрамковых было тихо. Василий Демьянович заперся в кабинете и с кем-то вполголоса переговаривался по телефону. Валентина Георгиевна лежала в спальне с мокрым полотенцем на голове. А Женя, стоя у кухонного окна и глядя во двор, где еще совсем недавно гуляла с ребенком, в который раз корила себя за то, что не уехала от родителей сразу после возвращения с дачи, как собиралась. «Надо было уехать, надо было уехать», – повторяла она в отчаянии, так как ей почему-то казалось, что если бы они с Машкой жили отдельно, то всего этого не случилось бы. Она и сама не могла объяснить – почему.
А вместо этого она снова дала себя уговорить. «Поживите хотя бы до Нового года, – просила мать плачущим голосом, – пожалей отца». И Женя сдалась.
С тех пор как похитили Машку, прошло два дня. Неужели только два? Ей казалось, что позади уже целая вечность, так невыносимо долго тянулось время в замкнутом пространстве квартиры, наполненном страхом и взаимной отчужденностью. «Надо обратиться в милицию», – заявил Василий Демьянович, который всю жизнь прожил не как хотел, а как было нужно. «Никакой милиции не будет, – ответила Женя, никогда не понимавшая и ни принимавшая принципов своего отца, – я хочу получить своего ребенка живым». – «Женя, Женя, что ты говоришь? – принималась плакать мать, – разве папа хочет чего-то плохого?»
«Никто никогда не хотел ничего плохого в этом доме, – думала Женя, – почему же здесь всегда было так невыносимо жить?»
Ей было шестнадцать, когда она впервые ушла от родителей и поселилась у Жени Белоуса, своего тезки, с которым познакомилась в Таллине на соревнованиях по картингу. Они пили пиво в кафе на Ратушной площади, и он рассказывал ей о своих родителях:
– У меня отличные старики: отец – сейсмолог, а мать – при нем, ездит с ними поваром. Представляешь, им по сорок шесть, а они влюблены друг в друга, как школьники. А твои чем занимаются?
Каждый раз, когда кто-то из ребят задавал ей этот вопрос, она испытывала чувство неловкости. «Мой отец – посол», – отвечала она, и на нее смотрели либо с завистью, либо с презрением: «А-а, номенклатура, все ясно…» Ей хотелось крикнуть: «Что – ясно? Что вам может быть ясно, если вы не живете в доме, где вас никто не понимает? У меня, конечно, есть шмотки, и видюшник, и даже компьютер, но у меня нет главного – ни любви, ни свободы, ни нормального общения». Но стоило ей начать что-нибудь объяснять, как в ответ ей раздавалось: «Ладно, не выпендривайся…»
С тех пор она стала скрывать от сверстников, кто ее родители, и тогда в Таллине Женя Белоус был первым человеком, который понял ее.
– Понимаешь, мой отец, наверное, неплохой человек, – говорила она. – Он не украдет, не ударит женщину, не обидит ребенка. Но он, он… не знаю, как объяснить… Он как машина… как хорошо отлаженный механизм… как передовица «Правды»… Как-то на лекции, которую его попросили прочитать в доме отдыха, он должен был рассказать о Швеции, где он был послом. Так он вместо того, чтобы сказать какие-то человеческие слова, вначале долго вещал о внешней политике партии и правительства, а потом так расписал Стокгольм, что если у кого из присутствующих и было желание когда-нибудь туда смотаться на досуге, то после этого оно уж точно пропало. Он даже не постеснялся сказать, что это город контрастов. – И мрачно добавила: – Если, конечно, кто-нибудь ему поверил…
– Что ты хочешь? Он же чиновник…
Женя горько усмехнулась.
– Если бы еще он был чиновником только на работе!.. Но он такой и дома. С ним же невозможно говорить. Стоит сказать что-нибудь, что на пять градусов отклоняется от линии партии, – все, хоть святых выноси…
– Да-а… А братья-сестры у тебя есть?
– Есть брат, – уныло ответила Женя, – но с ним еще хуже…
– Как это?
– Он такой же, как отец. И потом, он старше меня на восемнадцать лет.
– Ого!
– Ну да… И предки у меня старые… Я, что называется, поздний ребенок.
– А твой брат кто?
Женя махнула рукой.
– Да… тоже в МИДе работает.
– Понятно, – усмехнулся Белоус, – рабочая династия? Действительно – как в газете…
– Тебе хорошо – у тебя такие родители… А я как подумаю, что надо возвращаться в Москву… брр! У нас в доме как в склепе. Отец мрачный, не разговаривает.
Мать ходит на цыпочках, боится его потревожить. В квартире тихо – ни музыки, ни голосов. Даже собаки нет. Как будто покойник в доме… Знаешь, какая у меня любимая песня? Помнишь, Чайфы поют: «Есть еще здесь хоть кто-то, кроме меня?..»
– А почему у вас так?
– Отец, видишь ли, переживает за судьбу страны – он всегда переживает за что-нибудь глобальное… за судьбу мировой революции, например… Ну и своей конторы заодно. У них же там в МИДе тоже перестройка…
– Ну и что? Плохо, что ли?
– Что ты в этом понимаешь? Когда Громыко на пенсию отправили, отец весь черный ходил…
– Громыко – это кто?
Женя посмотрела на него и расхохоталась:
– Ну ты даешь! Тебе сколько? Семнадцать? Счастливый человек! Прожить семнадцать лет и не знать, кто такой Громыко! Андрей Андреич – бывший министр иностранных дел, да еще и член политбюро в придачу.