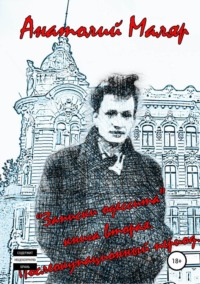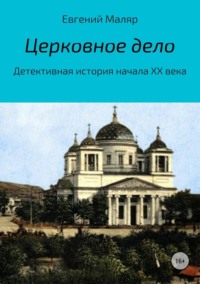Полная версия
Записки одессита. Оккупация и после…
По этой красивой лестнице еще совсем недавно жители, независимо от национальности, спокойно поднимались и спускались, весело шутили с соседями, встречая их на площадках. Иногда ругались. Теперь их гнали в неизвестность, и они переживали за своего деда. Кто его накормит? Кто будет за ним ухаживать?
Женщины плакали, дети испуганно суетились у них под ногами. Двое здоровенных, деревенского вида румын, совсем недавно призванных в королевскую армию, остались в квартире. Им еще не доводилось смотреть с такой высоты вниз, на вымощенную квадратными гранитными плитами землю. Один из них вышел на балкон и неловко зацепился за коляску. Старик, сидевший в ней уставился на него испуганными глазами.
– Здесь спрятался старый жид! – радостно окликнул он своего напарника.
– Гони его вниз, к остальным! – отозвалось в гулком коридоре.
– Он парализованный, иди сюда…
Старик не понимал по-румынски, хотя и чувствовал, что перекликаются солдаты о нем. Может быть, они не знают, как доставить его в больницу? Старик напрягся, его пугала неизвестность. Тут на балкон вышел второй румын, и весело предложил:
– Не будем с ним возиться, сбросим с балкона! Так будет быстрее!
Оба засмеялись: еще никто из их товарищей не сбрасывал жидов с четвертого этажа! Подняли перепуганного еврея из коляски, один уцепился крепкими крестьянскими пальцами за запястья, второй – за ноги. Старик понял, для чего его так ухватили, когда его стали мягко раскачивать, так, как раскачивают детей в морской воде… Он громко закричал, и этот крик отвлек меня от игры в песке…
О чем думал паралитик, летящий со своего балкона к быстро приближающимся гранитным плитам нашего двора? Наверное, он с ужасом смотрел на бегущего к месту его падения ребенка, который, задрав голову, смотрел на летящего деда ничего не понимающим взглядом. Мальчик запомнил этого старика на всю жизнь…
О чем думали молодые веселые румынские солдаты, наблюдавшие сверху за полетом кричащего старика-еврея? Позже советские и иностранные историки говорили: война есть война… Она без жертв не бывает. Войны бывают справедливыми и несправедливыми. Это всё теория.
А на практике еще одна вселенная разбилась о гранитные плиты двора на улице Жуковского.
***
Вскоре после этого случая румыны организовали под этим балконом солдатскую столовую. Рядом со входом соорудили длинную скамейку и каждый день к обеду моя тяжело больная бабушка Пелагея сажала меня не нее рядом с собой, и мы ждали, когда поедят румынские солдаты.
Они уходили, и тогда дежурный по столовой показывал нам куда сесть, наливал в солдатские миски борщ, давал мамалыгу, компот или чай. Все это было очень хорошо приготовлено – вкус мамалыги и борща я запомнил навсегда. И если борщ у меня сейчас иногда получается, то мамалыга, сколько я ни пробовал приготовить, не шла ни в какое сравнение с тем вкусом из детства. Видимо, для того, чтобы ее так приготовить, нужно быть румыном или молдаванином.
Мы с бабушкой Пелагеей каждый день сидели на скамейке, слушая всасывающие и хлюпающие звуки при приеме горячего борща и чавканье солдат при потреблении мамалыги. Ждали, когда поедят румыны и по команде встанут. Они выходили из-за столов, весело икая, перекидываясь шутками. Я нетерпеливо ожидал, когда они покинут столовую.
Дежурный солдат не успевал жестом разрешить нам пересесть со скамейки за освободившийся стол, как мы с бабушкой оказывались на месте с ложками в руках. Пока дневальный собирал алюминиевую посуду с других столов и протирал их тряпкой мы успевали съесть вкуснейший борщ вместе с мамалыгой.
Бабушка, вставая, всегда благодарила «деточку-румына», крестила его. Из столовой я выходил еще более веселым, чем солдаты, и она не знала, как меня успокоить. Румыны, находившиеся во дворе, смотрели на меня и смеялись. Они тоже были сыты, а потому – веселы.
Среди них случались разные люди, и офицеры, видимо, знали, кому из солдат можно поручить какую «работу». Были, как и в любой армии, любители вешать, расстреливать… Были и те, кто просто хотел жить. Таких обычно считают плохими солдатами – они не хотят становиться генералами. Их сложно отличить по внешнему виду от хороших. Румынские солдаты почему-то не хотели умирать на поле брани, но в дальнейшем пришлось.
Бабушка Пелагея
Бабушка часто брала меня за руку и водила в церковь. При пересечении Александровского проспекта она о чем-то со мной разговаривала чтобы я не замечал повешенных евреев на деревьях. На улицах и в Соборе людей было мало. Бабушка долго о чем-то разговаривала с батюшкой, а я ходил по огромному залу и радовался красоте, не соответствующей угрюмому виду города.
Возле Успенского собора (тогда я его названия не знал) толпились нищие, грязные дети и оборванные старухи, по сравнению с которыми мы с бабушкой смотрелись состоятельными людьми. Они бросались нам под ноги, выпрашивая подаяние, но у нас не было никаких денег. Иногда Пелагея вынимала из «загашника» какие-то мелкие советские монетки чтобы купить свечку и поставить ее за умерших…
Мама знала о копеечных сбережениях бабушки, но на них не претендовала. Возможно, эти деньги пригодились для оплаты похорон Пелагеи осенью 1942 года…
После похорон мама нашла в ее пуховой подушке спрятанные «катеньки», которые были уже никому не нужны. Эти деньги она хранила со времени срочной продажи двухэтажного дома в ее родной станице Веселая, откуда она бежала с детьми от резни.
Однажды бабушка Пелагея, поясняя мне в очередной раз, чтоб я не говорил родителям об увиденном, забыла отвлечь меня от панорамы Александровского проспекта, где на деревьях висели мертвые люди, освещенные солнцем. В пустом садике качались в тишине евреи с табличками на шее и меня заинтересовало, зачем они нужны:
– Бабушка, а что это за дощечки? – я никогда не видел, чтобы люди носили на шеях такое украшение.
– Пошли, пошли, это тебе еще рано знать – поторопила меня старенькая Пелагея.
Бабушка в последние дни своей жизни ходила трудно и медленно. Когда мы возвращались из церкви, Пелагея говорила: «Не говори папе и маме, пусть они не знают, куда мы ходили». Я никогда ее не подводил. После этого мы обычно усаживались на скамейку возле румынской столовой и ждали обеденного времени.
Чтобы я никуда не убегал, она мне рассказывала сказки, интересные и смешные, про Царевну-Лягушку, Аленушку, Иванушку. Какими бывают лягушки, я не знал, о царевнах тоже осведомлен был мало. О Кощее Бессмертном догадывался – румыны могли в него стрелять, а ему, наверное, хоть бы что, разве ребро поцарапают…
Когда дежурный пускал нас сесть за стол, уговаривать меня не было необходимости, я ел до икоты. Пелагея крестила, как всегда, дежурного по столовой солдата, а мне говорила: «Не говори папе и маме, что мы кушали у румын». Я и эту просьбу бабушки исполнял, хотя мама, конечно, видела мой выпяченный живот. Она ласкалась к бабушке, как будто ничего не понимала…
Бабушке было трудно подниматься на третий этаж и спускаться вниз, но через время она снова брала меня за руку и шла к школе. Там мы садились на тумбу возле входной лестницы, и Пелагея продолжала сказку о том, как гуси несли Аленушку, потому что без этого я убегал куда хотел и когда хотел…
Бабушка Пелагея меня очень любила, когда могла, старалась гулять со мной, но осенью 1942 года она умерла. Бог ей дал спокойную смерть, без мучений.
Ее положили на большой стол посреди комнаты, а мама с соседкой на кровати перебирали виноград для поминок, и я подсел к ним. Взял гронку и понес бабушке: «на, бабушка, съешь, не притворяйся». Эту смерть я перенес сложнее, чем то, что видел ранее.
Я хорошо запомнил похороны бабушки Пелагеи. Соседи помогли снести гроб с телом по лестнице нашей парадной на улицу, где ждала подвода с лошадью. Гроб положили на телегу, меня посадили рядом с извозчиком. Мои родители и соседи с несколькими старушками, знавшими бабушку, пошли сзади.
Медленно ехали по Ришельевской, потом по Водопроводной. Было тепло и солнечно. Въехали в центральные ворота Второго Христианского кладбища и остановились возле церкви. Взрослые мужчины внесли гроб в Храм.
Мои родители не были людьми верующими, однако бабушка веровала, и по ее последнему желанию похороны проходили согласно православному обряду. Потом гроб отнесли на руках к уже вырытой могиле. Когда его опускали вниз, одна из бабушкиных подруг поставила меня рядом и показала: «смотри, как твою бабушку глубоко закапывают».
Потом пошли обратно, по Водопроводной улице, зашли к каким-то маминым знакомым, где помянули бабушку Пелагею. Потом брели пешком домой и я услышал, как ребята, немного старше меня пели:
Антонеску дал приказ: всем румынам на Кавказ,
А румыны: «ласа, ласа», ла каруцэ ши ла каса
(«хорошо, хорошо, на телегу и домой»)
Улицы города были совершенно безлюдными. Я не помню, чтобы по ним ходили даже румынские патрули. Кто помог родителям в то трудное время организовать бабушкины похороны, я не знаю. Когда мама была жива, я не спросил, а потом… То, что похороны не обошлись дорого, понятно. Пелагею похоронили далеко от центральной аллеи, по тем временам – на окраине кладбища. Но ведь и скромными средствами родители не располагали.
Тогда могилы располагались не очень плотно. Недалеко от бабушки была похоронена румынская девочка, приехавшая с родителями. Многие румынские военные и предприниматели привозили с собой семьи в надежде остаться насовсем.
Родители не имели возможности держать нас возле себя и объяснять, куда можно ходить, а куда нельзя. После смерти бабушки Пелагеи, водившей меня за руку, я стал в возрасте четырех лет вполне самостоятельным. У нас с Ленькой не возникало мысли, что можно заблудиться в городе, на бульваре Фельдмана, например, и не найти обратной дороги к нашему дому. Ноги нас уводили от него и сами приводили, когда приходило время, о котором сигнализировало громкое урчание в пустом животе.
Мама находилась дома очень редко. Не всегда бывал дома и отец с сестрой, поэтому не помню семейных завтраков и обедов, но к вечеру папа обычно накрывал стол, на котором помещал разогретую на «буржуйке» сковородку с куском мамалыги, и ждал, пока мы с сестрой разделим ее по-братски. Все комнаты нашей коммунальной квартиры не закрывались на ключ. Мы знали, где живем, а в комнаты соседей не заходили, если нас не звали.
«Что такое хорошо?»
В румынскую столовую я не догадался ходить, хотя, возможно, солдаты меня и продолжали бы кормить по старой привычке.
С этого времени мое питание стало таким же скудным, каким оно было у моих сверстников и друзей, четырех – шестилетних одесситов.
Мы были постоянно голодны, но почему-то веселы. Как тогда говорили – жизнерадостные рахиты. Сказать, что мы были худыми – не сказать ничего.
Как-то раз один из сверстников назвал меня головастиком, что мне показалось обидным, хотя я, наверное, так и выглядел. Сейчас трудно себе представить состояние матери и отца, видевших своих голодных детей и знавших, что ничего для них сделать не могут. В таком положении было большинство родителей-одесситов.
В той комнате, с балкона которой в начале оккупации выбросили инвалида, поселилась тетя Аня с мужем Гришей. Они были бездетными. Дядя Гриша до войны работал где-то охранником, а тетя Аня обстирывала соседей, что-то перепродавала – это была обычная одесская семья.
При румынах охранять стало нечего, те сами знали, что охранять, а что разворовывать. Тетя Аня умудрилась-таки найти клиентов. Она несла большую стопку вещей, и я видел со стороны двора, как легко она перенесла их через окно черного хода на крышу бывшей фабрики. Соседка по довоенной привычке «сохнула» белье на крыше.
Я побежал по черному ходу к окну четвертого этажа. Встал на раму и перепрыгнул на крышу. Погрелся на солнышке, и пришла мысль, что пора домой. Подошел к краю крыши, но прыгнуть наискосок в окно не решился. Посмотрел вниз – там ходят маленькие румынские солдаты – падать на них страшно. Недалеко пожарная лестница, но там проемы длиннее моих ног. В голову ничего не приходит. Тетя Аня в окно увидела мое замешательство. Подошла к черному ходу, позвала меня. Я, радостно завизжав, подошел к краю крыши.
– На руку, и хорошо за нее держись! – скомандовала она.
Я уцепился за теплые пальцы и легко перебрался на черный ход.
– Будешь еще сюда ходить? – спросила тетя Аня.
– Не-е-е!
Такое знакомство с высотой мне не понравилось.
***
Почти все взрослые не имели возможности прокормить своих детей, стариков, да и самих себя. Мы знали, что дома чаще всего съестного ничего нет, а потому и не просили еды. Соседские дети объединялись и группами бегали по подвалам, лазили по деревьям и набивали животы всем, что цвело и плодоносило.
Мы знали, что скоро начнет цвести акация, потом поспеет шелковица, осенью появятся ягоды железняка и просиживали часами на этих деревьях, поедая «урожай». Любая болезнь, будь ты взрослым или ребенком, тогда означала смертельную опасность. Никаких медикаментов или медицинской помощи просто не было и быть не могло. Однако отравлений мы боялись меньше, чем голода.
Рядом с нашим домом, перед подъездом следующего, 21-го двора, располагался с довоенных времен винный склад с выходом на улицу. Почти ежедневно ранним утром румынские солдаты с грохотом поднимали гофрированную штору, закрывавшую его входную дверь. В утренней тишине слышно было, как постукивают пустые фляжки, канистры и котелки, и как нетерпеливо топчутся солдаты в очереди, которую устанавливал шустрый офицерик.
Обычно сперва подъезжала штабная каруца, на нее сразу грузили бочку с вином. Штабные солдаты ее грузили, они же ее гордо охраняли. Затем офицер запускал в склады по несколько человек. Он знал каждого из них, и для кого они получают суточный запас. Относился он к солдатам по-разному – одним старался угодить, других почти не замечал, а третьих презрительно перемещал в самый конец очереди…
Солдаты, входя в складские помещения, выбрасывали на тротуар окурки сигарет и с веселым настроением вбегали поднимать боевой дух. Поднимали они его, видимо, раньше, чем заполняли свои емкости. Одухотворенные и обвешанные заполненной тарой, они появлялись на выходе через несколько минут, а в помещение запускались следующие…
Из этого источника снабжались не только румынские военные и их семьи, но и женщины, которых они посещали… Обычно заправка горючим продолжалась недолго. Солдаты возле складов не задерживались и весело расходились по местам дислокации своих офицеров и их любовниц, почти твердо шагая по булыжным мостовым города. Затем опять громыхала железная штора, и шустрый офицер колдовал над замком, вихляя задранным кверху задом.
Румыны думали, что вина хватит на все время оккупации Одессы. Они ошиблись, его было значительно больше…
Перед тем, как немцы вошли в город, румыны стали выкатывать бочки с вином на булыжную мостовую. Предварительно они выбивали пробки из бочек и толкали их вниз по мостовой, затем бочки катились сами. Вино из них лилось рекой.
Редкие прохожие могли его пить, никто не запрещал. Соседи брали бутылки, ведра, наполняли их и несли домой. Мы с Ленькой принесли какие-то банки, смотрели как пьют вино взрослые и пили сами. Вино было хорошее, приятно-кисловатое, красное, в общем, нам нравилось. Меры мы не знали (не получили должного воспитания) и я плохо помню, как очутился дома. То же произошло и с моим «собутыльником» Ленькой. Склад был большой, вереница бочек катилась вниз по улице и на следующий день. Так мы впервые попробовали вина.
Через несколько дней вино принесло несчастье жильцам дома, в котором находились склады. Среди тех, кто сообразил принести домой несколько ведер вина были жильцы крайней слева квартиры второго этажа этого двора. Они пригласили своих друзей и устроили попойку на балконе, расположенном недалеко от угла. Через некоторое время к ним присоединились и соседи, принесшие с собой какую-то закуску. В итоге, старенькие ржавые крепления не выдержали. Двор находился рядом с нашим, и я был недалеко от ворот в тот момент.
Раздались громкие крики. Взрослые одесситы и одесситки побежали во двор № 21, я за ними. Людей было немного, но прибежавшие хотели как-то помочь: стали разбирать доски, оттягивать перила балкона. Оставшиеся в живых кричали и стонали. Из-под обломков вытащили, наверное, семерых или восьмерых. Их положили недалеко от места падения. Медицинских работников среди прибежавших соседей не было, квалифицированную помощь оказать никто не мог. Люди рвали на пострадавших одежду, пробовали как-то перевязать поломанные конечности. Боль пострадавших я не воспринимал, просто наблюдал. Потом кто-то взял меня за руку и повел домой.
Иногда партизаны убивали румын. Была ли польза от таких действий? После каждого случая происходили облавы, и за каждого убитого оккупанты казнили до ста человек.
В течение первых месяцев оккупации города румыны вели себя не очень активно, и убивать их из-за угла не было смысла. Судьба страны не зависела от таких комариных укусов подпольщиков. На полях сражений погибали сотни тысяч оккупантов и еще больше – наших солдат.
Вспоминаю слово «облава», которое произносилось почти привычно родителями, сестрой, соседями. Никто не знал, кого румыны отпустят, а кого повесят или расстреляют. Люди испытывали временные неудобства при повешении, которые скоро заканчивались, а те, кого расстреливали, иногда не успевали даже испугаться…
Когда слыхал от приехавших из эвакуации о том, что нам при румынах было хорошо, вспоминаю радость одесситов, которые при освобождении города вели себя, как маленькие дети, которых мама прижимает к груди, а в это время медсестра всаживает ребенку в попку прививку. Ребенок не понимает, за что его больно укололи, и удивленно смотрит на маму.
Как сравнить, когда одесситам было лучше? Во время оккупации жители не говорили о людоедстве. После освобождения подобные слухи распространялись. Была ли это вражеская пропаганда, или слухи имели основания, трудно сказать. Но голодать мы стали жестче, чем при румынах.
От оккупантов никто ничего хорошего не ожидал. Никого они не кормили и не собирались этого делать, но и не запрещали спекуляцию, воровство, проституцию. Предприимчивые люди открывали магазины, рестораны, бордели, и им, пожалуй, было неплохо. Те, кто не нарушал румынские оккупационные законы, имели шанс пережить эти три года, но после освобождения часто завидовали мертвым на протяжении десятилетий.
Никогда в центре города нам не приходилось видеть румынских танков или автомобилей. Когда в скверике на Молдаванке установили танкетку «На испуг», то было удивительно, как такое «чудо техники» могло воевать во время обороны Одессы. Впрочем, в глазах румын, вооруженных винтовками, такая наша техника была, наверное, очень грозной и гремучей…
По поведению оккупантов в городе, было не похоже, что среди солдат нашлись бы герои, мечтавшие бросаться под наши танкетки. В большинстве своем румыны были обычными мародерами, ценившими свою жизнь высоко.
Почему–то данные о потерях румынских войск при взятии Одессы и освобождении города никогда не публиковались.
***
Для Леньки я был непререкаемым авторитетом, и он ходил за мной всюду, никогда не спрашивая, куда и зачем идем. Я вел его на море, дорогу я освоил через парк Шевченко. Мама брала меня с собой, когда ходила стирать носильные вещи (мыла дома не было, а других стиральных средств не могло быть тем более).
На массиве возле «дотика» мы располагались на горячих камнях, как и редкие другие «курортники». Мимо нас ходили ребята старшего возраста, носили чайники, завернутые в белые мокрые полотенца, в которых была вода с кусочками льда, неизвестно откуда взятыми. Эти загорелые мальчишки пели невеселыми голосами песню:
Есть вода, холодная вода
Кому напиться, прохладиться…
Есть вода, холодная вода
Пейте воду, воду, господа…
Чтобы покупаться мы перемещались вправо, к Ланжерону, на мелководье, где был очень чистый песок. Несколько лет на нем почти никто не лежал и море его очистило до идеального состояния. А такие курортники, как мы, не могли его загрязнить в силу отсутствия продуктов, а, следовательно, и отходов от них.
Разница в состоянии песка появилась значительно позже, после освобождения, когда приехавшие из эвакуации одесситы, соскучившись по морю, стали располагаться на пляже семьями, и как восточные народности на коврах раскладывали еду и выпивку вокруг себя. Во время пиршеств, не отходя от места «отдыха», тут же закапывали куриные кости, кукурузные и яблочные кочаны, окурки в песок. Бегать по пляжу стало опасно, и вообще он стал напоминать мусорную яму, посыпанную песком, но никто и никогда на такое его состояние внимания не обращал.
А тогда мы с Ленькой лежали на идеально чистом песке, но питание наше оставляло желать лучшего, и мы были очень худыми. Как-то проходили мимо нас два пацана, старше нас, и один говорит другому: «посмотри на этих скелетов».
Хотя не одни мы были такими «упитанными», мне это показалось обидным, и я стал обращать внимание на «толстых и тонких». Однажды мы лежали на массиве недалеко от компании, состоявшей из мужчины лет тридцати «с животиком» и нескольких женщин, лет по двадцать-двадцать пять. Мужчина громко рассказывал, что, когда он был молодым, то был очень худым, как они – кивнул он в нашу сторону, и очень от этого страдал.
«А теперь я стал таким, как вы меня видите». Женщины кокетливо рассмеялись, и рассказчик самодовольно усмехнулся. А я подумал: «Врет, наверное».
Мама Леньки, тетя Дозя от природы была очень веселой и ее настроение мало зависело от обстоятельств. Она любила с нами шутить и обучала нас, четырех-пятилетних малышей, таким поучительным песням:
Мишка, мишка, медведь,
Научи меня пердеть,
Если не научишь, –
В морду получишь
Наш желудок тогда не всегда был полным, поэтому мишка нас обучал слабо, но видимо, пробовал, чтобы в морду не получить.
Тетя Доза никуда не ездила, ничего не продавала, но каким-то образом умудрялась, вместе с мужем Иваном, кормить сына, Леньку. Впроголодь, но все-таки… Когда Ленька просил еду, которой дома не было, она говорила: «Подожди, а то икать начнешь».
Ленька еще не знал, что можно наесться до икоты. Часто тетя Дозя, видимо с голодухи, устраивала в своей комнате визгливые скандалы. Дядя Ваня после оккупации сбежал от нее куда-то на Молдаванку…
Как-то в своем стремлении к освоению пространства мы с Ленькой добрались до чердака нашего дома и в глубоком закоулке возле входа нашли огромный ящик, который сдвинуть своими силами не смогли, но поломать сумели. Стали вынимать содержимое – хорошо упакованные скальпели, пинцеты, шприцы, иглы к ним и многое другое, свидетельствующее о том, что хозяин ящика – врач. Затем достали отдельный ящик, в котором была упакована большая хрустальная люстра.
Фрагменты этой люстры мы стали сбрасывать с крыши на гранитную мостовую. Эффект был поразительный – хрусталики разбивались в пыль и появлялась радуга, шарообразная и очень яркая. Наблюдать такую красоту одним нам показалось непозволительной роскошью. Мы позвали Витьку (Беню) и Толика (Тита) и стали бросать хрусталики вчетвером. То, что зрелище оказалось красивым, слов нет, но цена такого представления была безусловно, неоправданно высокой. Впрочем, в те дни и человеческая жизнь не стоила ничего.
Многие сараи были взломаны до нашего в них проникновения. Там мы находили упаковки значков «Ворошиловский стрелок», зажимов для пионерских галстуков, никелированные пожарные каски с гребешками сверху и еще много такого, что в то время было никому не нужным хламом.
Бани в городе не работали. Румынские солдаты строем ходили купаться в баню Исаковича, работавшую круглосуточно, а местное население туда не пускали. Все одесситы мылись дома в мисках и корытах. Воду нагревали на примусах или печках, которые устанавливали ближе к окнам, туда же выводя дымовую трубу. Такая «буржуйка», как ее называли, была и в нашей комнате.
Летом купались в море, в нем же стирали одежду. Позже появилось жидкое мыло в банках, но оно было очень дорогим для нашей семьи и расходовать его следовало очень бережно. Позже взрослые говорили между собой, что это мыло было получено из концлагерей, в которых его вырабатывали из человеческого жира, что вполне могло быть правдой.
Когда пришли румыны, одесситам, оставшимся в городе, нужно было доказывать, что в их жилах не течет еврейская кровь, даже если они четко выговаривали весь алфавит. Часто мешал нос, мешали глаза, и то, что обрезал раввин.
1942 год
В дальнейшем люди стали, кто как мог, приспосабливаться, но в первый год оккупации очень много взрослых и детей не выжили, и не только потому, что их вешали и расстреливали, но и от голода.
Люди, оказавшиеся в занятом врагом городе, были никому не нужны. О них никто не собрался даже думать. Когда уходили наши войска, магазины и продовольственные склады были разграблены или уничтожены. По законам военного времени, это, возможно, и правильно.