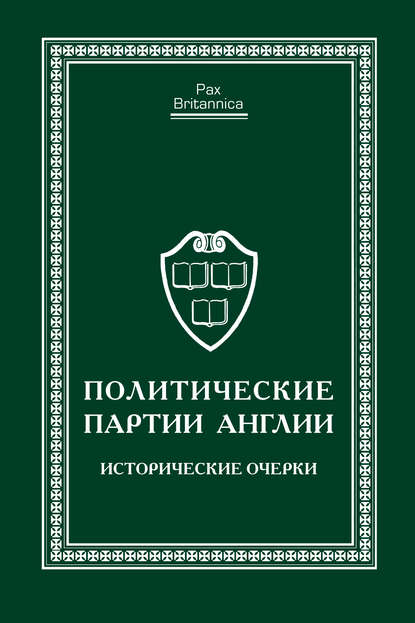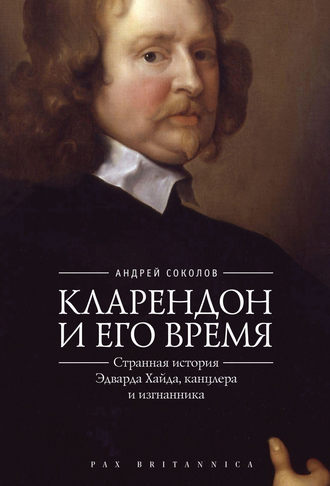
Полная версия
Кларендон и его время. Странная история Эдварда Хайда, канцлера и изгнанника

Андрей Борисович Соколов
Кларендон и его время: странная история Эдварда Хайда, канцлера и изгнанника
© А. Б. Соколов, 2017
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2017
* * *Введение
Начнем с фигуры, никакого отношения к герою этой книги не имеющей. В начале 1886 года шотландский писатель Роберт Льюис Стивенсон, известный всем как автор бессмертного «Острова сокровищ», опубликовал небольшую по объему повесть «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», написанную, как считают литературоведы, под впечатлением «Преступления и наказания» Федора Достоевского. «Странной истории», которую иногда называли высшим достижением Стивенсона, выпала долгая жизнь, экранизировали ее десятки раз. Это повесть о Добре и Зле, о раздвоении личности, о том, что в одном человеке соединены две сущности. Доктор Джекил – образцовый ученый викторианской эпохи, воплощение джентльмена, мистер Хайд, его второе «Я», – грубиян и убийца, средоточие самого омерзительного, существо из лондонских трущоб, способное поднять руку на ребенка и в порыве ярости забить до смерти уважаемого члена парламента. Повесть Стивенсона интерпретировали по-разному: сама ее фабула подталкивала к фрейдистскому пониманию бессознательного как настоящей сущности человеческой личности. С позиции марксистского подхода мистер Хайд – выражение страха респектабельного среднего класса, к которому можно отнести самого Стивенсона, перед появлением гегемона-пролетария.
Не задаваясь анализом интерпретаций литературоведов, не могу отделаться от вопроса, на который не имею ответа. Почему Стивенсон назвал самого отрицательного персонажа, куда более отвратительного, чем пират из «Острова сокровищ» Джон Сильвер, именем и фамилией человека и политика, образ которого ассоциируется с лучшими чертами представителя английской нации? Литературный Хайд вспыльчив и неспособен держать себя в руках, настоящий Хайд, хотя бывал несдержан в разоблачении того, что считал людскими недостатками, кажется, по-настоящему потерял над собой контроль только однажды, когда узнал, что его дочь Анна тайно сочеталась браком с братом короля герцогом Джеймсом Йоркским. Мистер Эдвард Хайд не образован и не отесан, но сэр Эдвард Хайд— не только выдающийся политик, главной заслугой которого стало мирное восстановление монархии Стюартов в 1660 году, но и один из лучших умов своего времени, конституционалист, защищавший права и короля, и парламента, поборник веры и нравственности. Он – историк, впервые полно и систематично рассказавший о событиях, названных Франсуа Гизо позднее, в XIX веке, Английской революцией. Хайд Стивенсона агрессивен и безжалостностен; Хайд исторический миролюбив, чужд насилию, он не участвовал в бесчисленных сражениях гражданской войны и не одобрял, по крайней мере, хотел показать, что не одобряет, политических убийств и жестоких казней. Список различий можно продолжить, однако понятно, что персонаж знаменитого викторианского писателя – антипод своему реальному однофамильцу. Невозможно предположить, что Стивенсон, писавший романы из английской истории, не знал о Кларендоне. Являлось ли достаточным основанием для избрания фамилии отрицательного героя повести ее звучание, связанное с английским глаголом to hide (скрываться, прятаться). Персонаж Стивенсона действительно укрывался в трущобах Сохо, или, если хотите, в потаенных местах души доктора Джекила. Почему Эдвард, Нэд? Не потому ли, что так звали легендарного вожака луддитов, разрушителей машин? Что это, шутка гения, или в использовании фамильного имени Кларендона есть «двойное дно», намек на то, что в самых внешне образцовых личностях есть глубины, в которые лучше не заглядывать?
Эдвард Хайд стал графом Кларендоном в 1661 году. Это звучит, как звон колокола, как напоминание о родном графстве Уилтшир – там, недалеко от Солсбери, в средние века стоял королевский охотничий замок. Титул Солсбери носили потомки царедворца Елизаветы и Якова I Роберта Сесила. Хайду досталось графское звание по названию этого места – Кларендон.
Читателям, знакомым с английской историей, название этой книги может показать знакомым. «Кромвель и его время» – так более полувека назад назвал работу по истории Англии XVII века видный советский историк Михаил Барг. Время Кларендона – это время Кромвеля, но включает еще шестнадцать лет, пришедшихся на начало Реставрации и эмиграцию во Франции. Можно ли назвать эпоху революции и Реставрации «временем Кларендона»? На этот вопрос можно ответить утвердительно по двум причинам. Во-первых, фигура Хайда почти сопоставима с Кромвелем, если сменить перспективу и взглянуть на ход событий, не оставаясь в рядах сторонников парламента и протектората, а перейти мысленно к их противникам. Однако многие кавалеры-роялисты, ненавидевшие его, не захотели бы согласиться с этим. Во-вторых, и это главное: истинным летописцем и первым историком той эпохи был Кларендон. В его «Истории мятежа и гражданских войн» и «Жизни Эдварда Хайда, графа Кларендона» есть неточности и односторонность. Кто бы спорил: они написаны с позиций его партии и небеспристрастны. Учитывать это должен любой исследователь. Но это не лишает его сочинения достоверности, степень которой каждый оценит на основе собственных методологических и историографических представлений.
Кларендон несправедливо оттеснен на задний план на сцене английской истории XVII века. В наши дни, когда революция как таковая перестала служить исключительно символом прогресса, а воспринимается одновременно как зло, инструмент разрушения и насилия, приверженность традиции, закону и порядку, ему присущая, заслуживает внимания. Если в истории есть эпохи, которые можно назвать переходными, то более чем столетнее правление Стюартов в Англии относится к их числу. Оно включило явления и события, которые историки разных направлений и взглядов определяют как переломные. К их числу относится Английская революция середины XVII века, которую марксисты характеризовали как буржуазную, установившую в Европе капиталистический порядок, и Славная революция 1688 года, занявшая ключевое место в либеральной концепции истории Англии как событие, обеспечившее переход к правильному конституционному устройству в этой стране. Годы Реставрации (1660–1688) также часто рассматриваются как переходный этап между этими ключевыми событиями британской истории. Хайд, игравший некоторую роль при дворе Карла I во время гражданской войны, был главным «переговорщиком» со стороны роялистов в 1660 году, обеспечив восстановление монархии, признание прав парламента и верховенства закона. По словам одного историка, «без него сам ход английской истории мог стать другим». Примечательно, что две внучки Кларендона стали королевами Англии.
К описанию жизненной истории Хайда можно применить прилагательное «странная» в старинном значении: удивительная, необычная. Судьба не всегда была к нему милостива: долгое изгнание в годы междуцарствия, изгнание и вынужденная эмиграция в последние годы жизни. В литературе и историографии он также остался куда менее приметным, чем яркие современники, такие как граф Страффорд, Оливер Кромвель, маркиз Монтроз, принц Руперт, оба Карла Стюарта и многие другие. Их в силу разных причин романтические образы «затмили» Кларендона, который даже внешне, плотный в молодые годы и толстый в зрелом возрасте, мало подходил на роль героя; он и был не героем на поле сражения, а бюрократом с твердыми политическими, религиозными и моральными принципами. «Герои», такие как его друг и кумир лорд Фолкленд, погибали в сражениях или на эшафоте, как другой его товарищ лорд Кейпл, были украшены шрамами от ран, ему же было уготовано долгие годы страдать от приступов подагры, иногда на несколько недель выбивавших из колеи. Он принадлежал к партии, которую называли «кавалеры», но как мало его образ напоминал их! Его деятельность была направлена на установление господства закона, твердого баланса между монархией и парламентом, сильной англиканской церкви. Его принципы и умеренная политика, в чем-то обгонявшие время, в конечном счете, оказались негодными для любой фракции. В лагере Карла I он считался слишком большим конституционалистом, а при дворе Карла II, отличавшемся терпимостью и даже фривольностью, он вызывал раздражение осуждением морального разложения и нежеланием угождать окружению монарха. Кларендон был прагматиком, но он не был бессовестным царедворцем, принципы не были для него пустым звуком. В то же время, ставя себя выше большинства окружающих, и не без основания, он допускал, что людям свойственна доля беспринципности, готовность сменить точку зрения, в лучшую или худшую сторону, в зависимости от обстоятельств.
Кларендон был легок в общении далеко не со всеми. Он был подчас излишне прямолинеен, когда надо было промолчать или принять происходившее как данность, поэтому у него не было недостатка ни в друзьях, ни во врагах. С годами друзей становилось меньше, а врагов больше. Королева Генриетта Мария, жена первого Карла и мать второго, была в числе его вечных противников. Однажды она сказала о нем: «Если бы он считал меня шлюхой, то сказал бы мне об этом прямо». Склонность к морализаторству и нравоучению, в конце концов, оттолкнула от него Карла II, что сыграло роль в падении его министерства в обстановке многочисленных обвинений. По мнению историка Х. Пирсона, он, по классификации Гиппократа, был холериком, как Петр I, Суворов или Пушкин: человеком порывистым и даже страстным, отдающимся делу, склонным к эмоциональным вспышкам [76, 81].
Кем же был Кларендон, «жирным стряпчим», как называли его враги при дворе, или, по определению писателя XVIII века Хораса Уолпола, «канцлером с человеческим сердцем»? Автор замечательного дневника той эпохи Самюэл Пепис писал о впечатлении, произведенном на него речью Хайда на заседании комитета Тайного совета в присутствии ряда министров и высокопоставленных чиновников: «Я в самом деле влюблен в Лорда-канцлера, поскольку он одинаково хорошо все схватывает и говорит, с величайшей простотой и убежденностью, какой я не видел ни в одном человеке за всю мою жизнь. Я не представляю, как можно говорить доступнее, со знанием того, что присутствующие скорее ниже его, чем наравне с ним. Он, в самом деле, говорит великолепно, его манера выступления свободна, будто он играет и просто информирует остальную кампанию. Это чрезвычайно привлекательно» [17, VII, 321]. Своим другом называл Кларендона другой знаменитый дайэрист, ученый Джон Эвлин. Он рассказывал, что в августе 1662 года его посетил канцлер в церемониальном наряде, с мешком и жезлом, а также с супругой: «Они были очень веселы. Они для нас, как родные. Мы давно знакомы, со времен изгнания. Он и в самом деле великий человек, который всегда был моим другом» [13, II, 351]. В то же время в любой период жизни Хайду хватало врагов, сыпавших обвинениями в его адрес. Апогеем ненависти стала попытка парламентского импичмента, от которого он спасся бегством.
Оценки Кларендона историками различались, как и у современников. Критическое отношение к нему сформировалось в либеральной историографии XIX века. Ее знаменитый представитель Томас Маколей писал: «Уважение, которое мы справедливо питаем к Кларендону как писателю, не должно заслонить нам ошибок, которые он совершил как государственный человек». Как можно понять этого историка, первой ошибкой Хайда было то, что он вступил в конфликт с Долгим парламентом и затем «следовал по стопам двора». Новые ошибки были совершены, когда после реставрации он стал канцлером: «В некоторых отношениях он весьма годился для своего высокого поста. Никто не сочинял таких искусных государственных бумаг. Никто не говорил с таким весом и достоинством в совете и в парламенте. Никто не был так хорошо знаком с общими правилами политики. Никто не подмечал особенностей характера таким разборчивым глазом. Нужно прибавить, что он отличался сильным чувством нравственной и религиозной обязанности, искренним благоговением к законам своего отечества и добросовестным попечением о чести и интересе короны. Но нрава он был угрюмого, надменного и не терпящего оппозиции. Прежде всего, он был изгнанником, и одного этого обстоятельства было бы достаточно, чтобы сделать его неспособным к верховному управлению делами. Едва ли возможно, чтобы политик, принужденный государственными смутами бежать из отечества и провести несколько лучших лет жизни в изгнании, годился, в день своего возвращения на родину, занять место во главе правительства. Кларендон не был исключением из этого правила… Для него Англия все еще была Англией его молодости; и он сурово хмурился на всякую теорию и всякую практику, возникшие во время его изгнания» [127, 170–171]. В основе неприятия Маколеем политики Реставрации лежит идеологема либерально-вигских историков XIX века: в эпоху парламентских реформ и возрастания роли парламента в викторианской Англии они смотрели на Долгий парламент и круглоголовых как на своих предшественников и приписывали им историческую правоту.
Следовательно, иная, враждебная революции сторона, рассматривалась как реакционная и препятствующая общественному прогрессу. В этом корень критики Кларендона вигами. Критика его как политика шла об руку с критикой его как историка.
Напротив, в консервативной традиции Кларендон рассматривался как выдающийся государственный деятель своего времени, противостоявший не только радикалам, политическим и религиозным, но и реакционерам, составлявшим большинство в Кавалерском парламенте, которые мечтали взять полный реванш. В целом положительные суждения о Кларендоне можно найти у видных консервативных историков Кейта Фейлинга, Джорджа Кларка, Хью Тревор-Ропера, у некоторых представителей ревизионистской историографии. Один из ведущих биографов канцлера Брайан Уормолд замечал: «Старые виги обвиняли Кларендона в авторитаризме. Галлам утверждал, что он был неспособен управлять свободной нацией. Маколей обвинял в склонности к угнетению и фанатизму. Кларендон действительно принял и поддерживал режим Реставрации и церковь Англии. Однако это никак не доказывает его авторитаризма. Жестокие законы в пользу англиканской церкви ввел парламент вопреки желанию и короля, и канцлера… Он всегда был приверженцем свободы и конституции» [111, XXX–XXXII]. Как полагал Р. Харрис, оценки людей и политика Кларендона целиком вытекали из того гуманистического духа, который он впитал в молодые годы в кружке Грейт Тью. До нашего времени его книги остаются «бесценным источником, и никакая работа об этом периоде не может быть написана без величайшего внимания к его суждениям» [48, 393–394]. С симпатией писал о Хайде его биограф Ричард Оллард. По его мнению, на всех этапах дружба была для него основой морального порядка и мерилом отношения к проблемам окружавшего мира.
В отечественной литературе оценки Кларендона как историка столь же диаметральным образом отличались. Автор раздела по английской историографии в учебнике, вышедшем в 1967 году, Н.А.Ерофеев видел в нем представителя «крайне правого, монархического лагеря», сформулировавшего «крайне примитивную ультрареакционную концепцию, которая «весьма несложна» и сводится к тому, чтобы «вычеркнуть само понятие революции из истории Англии», вкупе со стремлением оправдать собственную политическую деятельность [140, 43]. Автор другого учебного пособия, опубликованного в 2009 году, Н. С. Креленко отмечала, что Кларендон, будучи близок к традициям «политической школы Макиавелли, «обладал даром наблюдать и обобщать свои наблюдения, оставил действительно бесценные характеристики тех, кто тогда «делал историю». Она видит в нем предшественника Просвещения: «В отличие от многих современников Кларендон не уделил особого внимания религиозному фактору в событиях эпохи гражданских войн. Ведь это было общество, мыслившее категориями и понятиями, взятыми из Библии, и объяснить биение пульса общественной жизни без учета этого фактора трудно. По сути Кларендон в своем отношении к религии предвосхищает просветительский подход к этому вопросу. Этот сугубо рационалистический подход сделал Кларендона автором, вполне приемлемым в глазах «философствующих историков» XVIII в.» [123, 34–35; 124, 38]. Вряд ли можно согласиться с тем, что вопросы религии были для него вторичны: сама интерпретация гражданской войны строится во многом на неприятии им пресвитерианства и католичества. Забота об интересах англиканской церкви, в том числе материальных, всегда была для него приоритетной. Выступая в Конвенционном парламенте, он говорил: «Всемогущий Бог не стал бы тратить столько средств и сил на такое избавление, если бы не делал это ради церкви, весьма для него приемлемой». К. Хилл заметил по поводу этой фразы, что «аргумент о допущении Богом больших издержек был, должно быть, весьма приемлемым для его аудитории» [146, 293]. В то же время он действительно прорабатывал некоторые идеи, оказавшиеся затем в багаже Просвещения, и одно это не позволяет навешивать на него ярлык реакционера.
При написании этой книги ставились три главных задачи. Первая решается при создании биографии любой исторической личности – понять мотивы, двигавшие поступками героя, уловить его психологический склад. Без этого описание действий и обстоятельств будет неполным и формальным. При реализации этой задачи в нашем случае есть трудности и преимущества. Трудность в том, что герой принадлежит к определенной социальной группе, к другому времени и другой культуре. Непросто представить себя английским джентльменом XVII века, являвшегося и баловнем, и изгоем, однако нет иного способа решить теорему Хайда. Философ и историк Коллингвуд утверждал: «Всякая история есть история мысли». Чтобы понять действия героя, надо попробовать представить себя на его месте, надо попробовать думать так, как думал он, искать решения так, как мог искать он. Однако, к счастью, есть и преимущество. Оно состоит в том, что Хайд не относился к категории «молчаливого большинства». Наоборот, его историографическое, философское и теологическое наследие огромно. Более того, во всех произведениях отчетливо проявляется его собственное «Я».
В каких-то чертах я пытался взглянуть на своего героя через призму собственного характера. Как утверждал немецкий мыслитель Вильгельм Дильтей, чтобы понять людей и события прошлого, историк может надеяться, в основном, на собственную интуицию. Хайд был одним из самых одаренных людей своего времени, он осознавал эту одаренность и не считал нужным ее скрывать, в том числе от тех, кто был, по меньшей мере, не ниже его по социальному положению. Окружающие часто мстят тем, кого считают «слишком умными». Хайд бывал излишне прямолинеен, что принимается за заносчивость. Труднее принять его морализаторство и строгость требований к «двуногим существам, именуемым людьми» (выражение Дэвида Юма). Впрочем, пусть бросит камень, кто сам без греха: многие склонны разоблачить чужие пороки, настоящие или надуманные, легко прощая прегрешения себе. Плоть от плоти представитель высшей касты, он жил ее заботами и привилегиями, оставаясь равнодушным к народной жизни и не призывая к «милости падшим».
В Хайде мне импонируют его методологические позиции и мастерство историка. Будучи воспитаны в духе позитивизма и марксизма, мы ощущаем дискомфорт, если не силимся утвердиться в историзме и существовании законов истории. Кларендон писал в традиции античной и гуманистической историографии: ход истории определяется поступками людей, которые могут быть достойными или дурными. Характеры влияют на их действия, поэтому во многих временных точках история многовариантна, она не запрограммирована изначально на конечный реализованный результат. История слишком сложна и непредсказуема, чтобы извлекать из нее однозначный ответ: что правильно и что неверно. Будучи убежденным, искренне верующим членом англиканской церкви, Хайд не сторонник провиденциализма. Идею божественного вмешательства в ход истории он озвучил только в одном случае – пытаясь объяснить столь чудесное для современников, и, видимо, в его собственных глазах, почти бескровное возвращение Карла II Стюарта на отцовский престол. Памятуя о цикличности, нельзя ли предположить, что после полутора веков господства научной историографии общество больше нуждается не в ее законах, способных оправдать все, даже самое преступное, а в моральных уроках, которые не убрать из памяти последующих поколений?
Вторая задача, стоявшая при написании этой книги, состояла в том, чтобы, насколько возможно, дать читателю представление о времени, когда жил Хайд. Это не значит, что у автора было намерение перенести акценты, например, оправдывая роялистов и осуждая парламентскую партию. Речь не идет о том, чтобы окрасить белое в черный цвет и наоборот. Я исхожу из убеждения: каждый историк и каждый читатель вправе интерпретировать исторические события так, как ближе его сердцу и разуму. В то же время нельзя игнорировать того, что разные времена порождают разные идеологические конструкты. Марксистский дискурс советской историографии «предписывал» оценивать революции сугубо положительно как «локомотивы истории», как двигатели общественного прогресса. Нынешний консерватизм и «борьба с экстремизмом» предполагают смещение оценок. Каковы границы, каждый решит сам. Я только пытаюсь дополнить традиционный для отечественной историографии нарратив фактами и суждениями о британской истории XVII века, которые пока не были в должной мере артикулированы. Отсюда взгляд на гражданскую войну из лагеря кавалеров, отсюда внимание к роялистской эмиграции, отсюда попытка отойти от оценки периода Реставрации как времени господства реакции. Жанр этой книги – на стыке популярного исследования и научной монографии. Мне не хотелось загружать книгу «наукообразием», но я считал необходимым представить в ней отдельные историографические дискуссии и разнообразие точек зрения историков.
Третья задача вытекает из подхода Кларендона, создавшего литературную коллекцию портретов современников. Может показаться, что книга несколько перегружена именами, а приведенные в ней краткие сведения о тех, чьи судьбы пересеклись с судьбой Хайда, не так важны. Извинением служит то, что многие из этого ряда фигур британской истории пока не привлекли особого внимания российских авторов. Мы по-прежнему в основном в кругу имен, очерченном нашими предшественниками, советскими англоведами, и это имена из революционного лагеря.
Использованные источники хорошо известны специалистам, писавшим о Кларендоне и о его времени. Прежде всего, это сочинения современников, в первую очередь, самого Кларендона. Он писал «Историю мятежа и гражданских войн» во время двух изгнаний, между которыми двадцать лет. Сначала он воспринимал будущее произведение не как автобиографию, а как максимально достоверное описание событий. Во второй эмиграции во Франции он начал с составления «Истории жизни Эдварда, лорда Кларендона, от рождения до реставрации королевской семьи в 1660 году», то есть автобиографии для семьи, с которой мечтал воссоединиться. Получив от сына Лоуренса рукопись оригинальной «Истории», он смог вернуться к первоначальной идее и соединил разделы, написанные на острове Джерси, с разделами «Истории жизни», добавил новые разделы с главным намерением – отойти от личной перспективы в изложении. В 1672 году окончательный текст «Истории мятежа», состоящий из шестнадцати книг, был закончен. «Вечный спор» о степени достоверности этой великой работы продолжается больше трех столетий со времени появления публикации первого тома в 1702 году. Знаменитый мемуарист епископ Гилберт Бернет так отреагировал на это культурное событие: «Первый том «Истории» графа Кларендона дает правдивое описание начала бед, хотя написан в защиту двора, и содержит много оправданий плохого, на что тот был способен» [1, I, 53]. «Продолжение жизни Эдварда, лорда Кларендона», содержавшее описание периода канцлерства, преследовало, в первую очередь, личную цель – защититься от обвинений, приведших к бегству из Англии. Помимо этих, первостепенных для создания биографии Хайда источников, были привлечены другие его произведения, в том числе, официальные прокламации, которые он составлял для Карла I, а главное – философские, богословские и политические сочинения, написанные им, по большей части, незадолго до смерти, в годы второй эмиграции.
К этой же группе относятся мемуары и дневники современников, тех, кто знал Хайда. Это были люди, принадлежавшие к разным лагерям разделенной Англии. Их судьбы и отношения с Кларендоном складывались по-разному. Особую значимость эти свидетельства имеют, когда речь идет о его канцлерстве в годы Реставрации. Первым назовем Балстрода Уайтлока: близкий и любимый друг Хайда, ставший врагом, сторонником Долгого парламента и сподвижником Кромвеля. Оба стали первыми историками события, которое потомки назовут Великой Английской революцией. Труд Уайтлока «Мемориал об английских делах от времени правления Карла I» лишен анализа, сделавшего «Историю мятежа» великой исторической работой, но это добротный и исключительно важный источник. В нем есть строки, позволяющие заподозрить канцлера в коррупции и стремлении нажиться за счет прежнего друга. По словам российского литературоведа, Уайтлок, «безусловно, дайэрист, но весьма своеобразный: он до такой степени «лорд», «дворянин», «государственный муж», что не может поступиться своим «Высочайшим» достоинством даже в дневнике. Ни разу он не позволяет себе проявить какое-либо чувство: радости, огорчения, досады, недоумения, разочарования. Он не знает, что такое вопросительный или восклицательный знак, и в конце предложения или периода неизменно ставит точку» [134, 44–45]. Стиль Кларендона куда живее: иногда он пафосен, но чаще эмоционален, ироничен, даже насмешлив. До революции Хайд и Уайтлок были в отношениях, называемых «лучшие друзья». В эссе «О дружбе» Хайд утверждал, что один из принципов, определяющих отношения джентльменов, в том, что если друзья расходятся, то никогда не злословят по отношению друг к другу. К числу врагов Хайда относится супруга полковника Хатчинсона Люсиль, написавшая мемуары о жизни своего супруга, которого она, несомненно, любила и хотела, пользуясь связями при дворе Карла II, спасти после реставрации. В них можно найти довольно едкие суждения о канцлере.