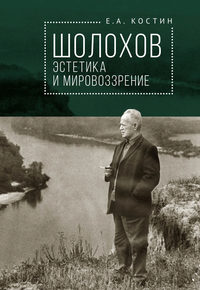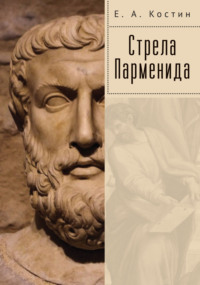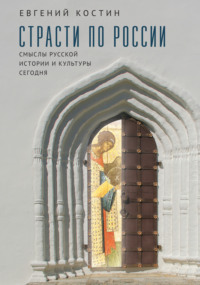Полная версия
Пушкин. Духовный путь поэта. Книга первая. Мысль и голос гения

Евгений Александрович Костин
Пушкин: духовный путь поэта. Мысль и голос гения
© Е. А. Костин, 2018
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2018
Введение
Рано или поздно в жизни каждого исследователя русской литературы наступает момент, о котором он подсознательно думает, но отодвигает на потом, – когда он должен определиться со своим отношением к Пушкину. Причем, это отношение, конечно же, должно отличаться от поверхностных и эмоциональных восклицаний и суждений, повторяя вновь и вновь – Он наше все, он солнце русской поэзии, не было бы Пушкина – не было бы ничего. И не потому, что это будет неверным высказыванием, как раз наоборот, формулы эти, когда-то раз произнесенные, стали частью нашей устойчивой национальной мифологии, посвященной Александру Сергеевичу, но вопрос в другом – что именно ты можешь увидеть своего в его творчестве, биографии, всей его деятельности как поэта, публициста, историка, философа, общественного деятеля (да, именно так, поскольку ни движение декабризма, ни все вольнодумные речи демократов и радикалов XIX века, невозможны без его стихов о Вольности, без «Бориса Годунова» и «Медного всадника», без самого воздуха свободы, который разлит во всем его творчестве).
Одна из центральных тем в пушкинистике – это, безусловно, понимание общего духа пушкинского художественного мира. Кем он был – атеистом или богобоязненным христианином, человеком эпохи Просвещения с явным западным привкусом или настоящим русаком – петровского, а где-то и Николая Павловича оттенка, если вспомнить его стихи о Польше («Клеветникам России», «Бородинскую годовщину», стихи о самом царе), что считать главным в его творчестве – «Евгения Онегина» или «Капитанскую дочку», «Бориса Годунова» или позднюю лирику, «Маленькие трагедии» или «Повести Белкина»? Не видно конца и краю спорам и разным точкам зрения. Да ведь и не только сейчас. Так было всегда, и началось почти сразу после его смерти.
Может быть, таинственная связь Пушкина со своими читателями, а шире – со своим народом, проявилась в ситуации его смерти и похорон, когда т ы с я ч и людей (по свидетельству очевидцев, а это просвещенные Карамзины, не склонные к преувеличениям, их было не менее 20 тысяч, что является колоссальной цифрой для того времени) приходили в дом поэта, чтобы проститься с ним, стояли громадными толпами на набережной Мойки, на Невском проспекте, когда на самом деле перепуганное правительство вдруг увидело в э т о й смерти, как и в смерти Александра Первого, повод для общественного негодования, для бунта, давно зная и понимая, что сам поэт не разделял взглядов о насильственном свержении власти. Об этом будут писать и В. А. Жуковский в письмах генералу Бенкендорфу и кн. П. А. Вяземский в письме к великому князю Михаилу Павловичу. Но в таком как бы в н е з а п н о м и неожиданном проявлении чувства поклонения и любви простого народа к своему поэту было нечто большее, чем жалость по ушедшему таланту, по автору любимых произведений, в этом была скрыта та тайная, но сильнейшая любовь народа к своим святыням, которые необходимо всегда помнить и всегда оберегать. Пушкин стал для него, народа, такой святыней культурного рода. Это был, может быть, акт первого сильнейшего духовно-культурного самосознания русского народа, после которого оказалось возможным появление и осознание и Гоголя, и Толстого, и Достоевского, и Тургенева, и Гончарова, и Чехова и других гениев русской литературы как учителей и защитников, как пророков и святых. Именно с Пушкина – и кристаллизуется это именно сразу после его смерти – возникает устойчивое отношение в русском обществе к слову, как к основе собственного существования, как к критерию внутренней жизни, как к ценности, которую раз и навсегда приняв, необходимо беречь. Сохранять русское слово – это защищать Пушкина, и наоборот. Просто п о н я т ь такое невозможно, с этим можно только жить, размышляя над онтологическими ценностями бытия целого народа, выразившимися преимущественно в сфере художественно-эстетической.
Эта книга, которую читатель держит в руках, задумывалась как сквозное прочтение и комментарий писем, литературно-критических статей, исторических заметок, дневниковых записей Пушкина. Но комментарий особого рода. Он не будет носить характер академического истолкования тех или иных исторических отсылок, литературных обстоятельств, связи с биографией и т. д. В книге будут приведены сведения об основных адресатах писем Пушкина, но не больше. Любого читателя можно отослать к академическому собранию сочинений поэта, к данным там комментариям, к многочисленным работам пушкинистов, в конце концов к ресурсам интернета. Так как любой человек, читающий на русском языке, по тонкому замечанию Андрея Битова, является пушкинистом по определению, то ему, читателю, и флаг в руки. Продолжай работу, ищи, истолковывай. Задача автора состояла в другом – увидеть путь движения мысли поэта, его человеческого и духовного становления, рассмотреть под этим углом зрения то, что, может быть, еще не было увидено ранее.
Конечно, невозможно было отказаться от обращения к стихам, прозе, историческим заметкам и литературной критике поэта. Но красная нить работы была именно такой – прочесть письма поэта и его литературную критику от начальной как бы точки до последних строк, написанных его рукой.
Автор книги помнит идею А. Г.Битова, который давно уже предлагал издать в с е г о Пушкина не так, как это привычно для собраний сочинений разного рода – от академических до многочисленных двух и трех-томников, с изданием отдельно стихов, отдельно прозы, отдельно драматургии. Он призывал посмотреть на путь Пушкина как на нечто уникальное в русской культуре, и поэтому воссоздать всю его творческую жизнь от первых опытов лицейского периода до последних, предсмертных писем и заметок – и опубликовать все это день за днем, последовательно.
Он и выполнил частично эту задачу, создав замечательную книгу «Предположение жить. 1836» (Москва, издательство «Независимой газеты», 1999), посвященную одному году жизни поэта, предварив ее несколькими глубокими статьями о значении и роли Пушкина в нашей жизни. В них он точно замечает, что «ни про одного человека в России мы не знаем столько, сколько про Пушкина, и ни одного – настолько же не знаем. Он так проявлен во всем, что его касалось, что рядом с ним любое другое житие окажется ограниченным ролью. Пушкин лучше других понимал и назначение свое, и даже значение, однако никогда не бывал ограничен ролью. То и поражает, что, под любым углом и прищуром, Пушкин до конца человек, вот и исполнил свое предназначение как никто другой».
Вообще, все, что связано с Пушкиным и его воздействием на русскую историю и русскую культуру, может быть обозначено одним только словом – чудо. Ну, вот один пример, описанный в литературе. Первенец Пушкина и Натальи Николаевны дочь Мария вышла замуж за поручика Леонида Гартунга. Он дослужился до генерала, впоследствии в 1877 году он был несправедливо обвинен в растрате казенных денег и застрелился в зале суда. В дальнейшем разбирательстве дела он был оправдан. Мария Александровна больше не вышла замуж. Она встречалась с Львом Толстым в Туле, что описала Т. А. Кузьминская в книге «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне». Толстой разглядел у нее «арабские завитки на затылке, удивительно породистые» и впоследствии не отрицал, что она послужила для него одним из прототипов Анны Карениной в плане наружности. Но и не это так потрясает, как то, что умерла «Машка», как называл ее в письмах к жене Пушкин, в 1919 году в Москве. Мыслимое ли дело? – первенец Пушкина, родившаяся почти сразу за восстанием декабристов (через 7 лет), настолько переживет свой век, что окажется в советской, ленинской России в ситуации гражданской войны.
Чудом является присутствие Пушкина как поэта, философа, родоначальника русской литературной речи мирового уровня и качества, совершившего неимоверный прорыв в самую суть русского языка, создавшего в тиши Михайловского и Болдино тот материк русской художественности, без чего ни русская культура, ни русский человек уже никогда не будут другими, менее эстетически развитыми, менее обостренно относящихся к вопросам духовности и нравственности, в самой русской жизни.
Хочется понять и разглядеть этот механизм пушкинской духовной структуры, которая повлияла на всех нас разом – людей, говорящих и думающих на русском языке, – и тогда влияло и влияет теперь – от Николая Первого до моего трехлетнего внука, который упоенно слушает пушкинские сказки, покачивая головой в такт ритму и рифмам пушкинских строк: «… златая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом».
И еще одно. За три года до смерти Пушкина, в 1834 году, Гоголь воскликнул о нем, как о русском человеке, который явится нам через 200 лет. Срок уже почти осязаем, но безусловно, что мы всё также далеки от Пушкина как некоего идеала русского человека. Как же так можно! – воскликнет здесь читатель, вы ведь еще ничего не описали, не проанализировали, не доказали, а суждение уже есть. Да, то-то и оно, что некоторые вещи, связанные с Пушкиным, очевидны еще до доказательств, априорно. Но от этого ничуть не теряет своей человеческой и научной занимательности задача – понять, что же такого создал в себе поэт, что мы считаем его мерилом и вершиной возможностей русского человека.
Автор не может, по вечной привычке филолога, не прибавить к этому выражению, что о русском он судит не по чистоте крови[1] и незапятнанному генеалогическому древу (сам Пушкин не особенно укладывается в эти мерки), но по ментально-культурной идентичности, о коей автор книги сам написал несколько статей, и не преминет в своем месте на них сослаться. Русское значительно шире по своему культурному составу, чем этническое. В современную эпоху, когда наблюдается известного рода возврат к национальному, несмотря на все прелести глобального переустройства мира, такая рефлексия русского становится и определенного рода задачей по исполнению предсказанного Гоголем пророчества в области человеко-строительства в связи с приближающимся сроком.
А имея в виду известную русскую привычку напрягать силы и проникать в какие-то запредельные миры уже «на флажке», когда и сроки все кончаются, и времени не остается, то мы сейчас и вступаем в период, призванный откорректировать наше собственное поведение и облик, психологические стереотипы, интеллектуальные формулы и все прочее, чтобы хотя бы немного сократить дистанцию между нами и Пушкиным, который существовал с нами вчера и существует «сегодня», и так на протяжении почти 200 лет.
Говоря о такой грандиозной личности как фигура Пушкина, мы не должны забывать его как реального человека (в противовес его явлению как неотъемлемой части национальной мифологии), частного субъекта со своими предубеждениями, привычками, хандрой, страстями, болями, склонностью к фатализму, верящего в судьбу и приметы, неуемного в веселье, верного товарища, замечательного отца и мужа, – любой исследователь, размышляя об этом, взваливает на себя задачу невероятной сложности, так как все это вошло в состав лирики поэта, в его другие тексты, и вычленить их них просто Пушкина практически невозможно. Он, исследователь, вынужден будет обращаться не только ко всему наследию поэта, не только к громадной, не имеющей краев литературе о нем, не только к тем явлениям русской культуры, которые поэт и предугадал и наметил пути их развития, но и к самому себе. Сравнение и сопоставление здесь не то что уместны, но единственно необходимы, так как без глубинного, своего прочтения и понимания Пушкина, нечего и браться за подобную тему.
Но и ответственность – немыслимая, безграничная. Однако, нечего делать, надо пробовать и делать то, что должно. Меньше всего хотелось бы обозначить эту книгу как следование какому-то конкретному жанру. Это, конечно, не монография, не эссе, не публицистическая работа, не философский трактат, не биографический очерк. Всего этого будет понемногу в книге – и так и тогда, когда автору будет казаться это уместным. В известной мере научный подход к художественному миру Пушкина будет представлен во второй части книги «Мир пророка».
Это будет просто к н и г а, книга о Пушкине, в которой мы прежде всего обратимся к письмам и другим материалам поэта (литературной критике, дневникам, историческим штудиям) и попробуем обнаружить в них самые важные – для автора книги в первую очередь, а он надеется, что и для читателя – смыслы и «опорные точки». Необходимо постараться увидеть в этих материалах историю духовного становления Пушкина, то, как его собственное, личное, интеллектуальное и эмоциональное человеческое развитие влияло на содержание основных произведений.
Очевидно ведь, что если бы Пушкин не был великим человеком, то не смогла бы удаться ему та роль, которую он блистательно исполнил – «одного из умнейших людей России» (слова Николая Первого, сказанные о поэте), родоначальника новой русской литературы, фундатора русского литературного языка, писателя, без которого не было бы всей великой русской литературы XIX века. Это настолько ясно, что даже величайшие гении того века – Гоголь, Толстой, Достоевский – безоговорочно признавали его первенство и свою зависимость от него.
* * *И все же он был безмерно одинок. Одинок всякий гений, заглядывающий туда, куда трудно заглянуть обыкновенному человеку. Но Пушкин был гением ultra plus perfectum. Известная хандра его по-своему отражала ощущение того, что он превышал возможности людей своего времени. Даже самые близкие друзья иногда его не понимали. Через такое непонимание пришлось ему пройти в тяжелые недели и дни 1836 и 1837 годов, когда духовно близкие ему люди – Карамзины, Вяземские, Жуковский – не до конца понимали мотивов его поведения и его страдания в ситуации, когда он один-одинешенек защищал себя не только от обрушившихся на него сплетен и клеветы, но и защищал свое место в русской литературе, свою роль в истории России.
Кн. П. Вяземский писал А. О. Смирновой 2 марта 1837 года, уже после смерти поэта: «Легко со стороны и беспристрастно, или бесстрастно, то есть тупо деревянно, судить о том, что он должен был чувствовать, страдать, и в силах ли человек вынести то, что жгло, душило его, чем задыхался он, оскорбленный в нежнейших и живейших чувствах своих: в чувстве любви к жене и в чувстве ненарушимости имени и чести его, которые, как он сам говорил, принадлежат не ему одному, но России».
После смерти поэта к его друзьям пришло прозрение (и об этом мы поговорим дальше), но в самые тяжелые для него минуты почти никто не разделял его мучений и не оказал ему той помощи, которая могла бы сохранить жизнь, не отдавая на поругание честь. Тот же П. А. Вяземский, один из ближайших его друзей, пишет, совсем немного отойдя от смерти поэта и узнав что-то, что переменило его первоначальное снисходительное отношение к другой стороне смертельной дуэли: «Пушкин был не понят при жизни не только равнодушными к нему людьми, но и его друзьями. Признаюсь и прошу в том прощения у его памяти: я не считал его до такой степени способным ко всему. Сколько было в этой исстрадавшейся душе великодушия, силы, глубокого, скрытого самоотвержения!»
Пушкину по его характеру и гению надобно было всего сразу и наилучшего. Высватав себе первую красавицу империи, Пушкин по-своему удовлетворил свое мужское и человеческое тщеславие. Он, правда, не догадывался тогда (понимание придет позднее), что за это придется расплатиться. И позже, уже осознавая это, он не знал, что расплата будет самой высокой пробы – его собственная жизнь.
Женившись на Наталье Гончаровой, как мы теперь понимаем, он был обречен. Дон Гуан погибает у него от рукопожатья каменной длани Истукана. Нельзя не вспомнить многочисленные усилия поэта по продаже другого истукана – бронзовой скульптуры Екатерины Великой, которая принадлежала его родственникам по жене. Пристроить ее не удалось, несмотря на письма Пушкина Бенкендорфу и другим сановникам. Как писал сам Пушкин – «бывают странные сближения»…
* * *Разумеется, письма великого человека интересны сами по себе. Они дают нам бесценную информацию о множестве вещей, о которых мы могли бы догадываться, читая его произведения (в случае с писателями) или ссылаясь на другие задокументированные по-своему сведения – автобиографию, публициститику и нечто подобное. Однако такого рода полнота информации о личной жизни, пристрастиях и предпочтениях в быту, отношениях с домашними, сведениях о болезнях и разного рода жизненных передрягах, о мотивах поступков, неожиданных комментариев к произведениям и прочее-прочее, без чего мир художника становится нам яснее и полнее, без писем становится невозможной. Или, по крайней мере, мы получаем дополнительный стереоскопический эффект, объясняющий нам лучше и глубже то, что автор пытался выразить в своих произведениях.
Конечно, мы не можем рассматривать текст писем как некий абсолютный документ, который или решительно редактирует наше первоначальное отношение к произведениям писателя, или уточняет мотивы его эстетического поведения, или же заставляет совершенно по-иному воспринимать те или иные его тексты.
Эпистолярный жанр заставляет любого человека высказываться откровеннее и яснее, чем он это делает в других формах литературного творчества – в публицистической статье, критическом замечании и т. п. Дистанция между авторским «Я» и его человеческим обликом в письмах становится предельно малой, почти незаметной. (Мы не имеем в виду письма такого рода, как, к примеру, письмо Белинского к Гоголю, которое изначально было ориентировано не на индивидуальное восприятие адресатом, но на больший круг воспринимающих субъектов, в целом на «прогрессивное» русское общество).
Оговорки, описки, уточнения семейного и личностного рода, вроде ссылок на болезни, хандру, неприятности по службе, нелитературная лексика – чего мы только не обнаруживаем в письмах людей, пишущих свои послания не в литературном роде (как, к примеру, «Письма русского путешественника» Н.Карамзина), но ищущих контактов с друзьями, находящимися далеко, жалующихся семье на всякого рода тяготы. В них мы встречаем излияния в виде понятных человеческих жалоб на усталость, невезения в жизни – от игры в карты до конфликтов с начальством, обнаруживаем информацию о начатых или уже завершенных произведениях, воспоминания о шалостях и приключениях в друзьями в прежней жизни, рассказ о любовных романах, рассуждения и оценку прочитанных книг, реакцию на исторические события, возмущение цензурой и политикой правительства по отношению к частной жизни человека, пересказ последних светских сплетен и передача важных сведений о друзьях и их положении в обществе и многое-многое другое – чего мы только не вычитаем в письмах людей пушкинской эпохи. В том числе и в письмах Пушкина.
Два момента хотелось бы отметить перед тем, как читателю будет предоставлена возможность ознакомится с подборкой писем поэта. Первый связан с указанием на то обстоятельство, что Письмо в век Просвещения (вторая половина 18-начало 19 веков) в Европе, а также в России, усвоившей почти все приемы той культурной эпохи, было существенным признаком образованности, принадлежности человека к «хорошему» обществу. Поэтому к написанию писем относились крайне серьезно, независимо от внутренней, так сказать, градации писем – девичьих, писанных к подругам и наперстницам сердечных увлечений или серьезных мужских, в которых обсуждается самый широкий круг проблем – от политических до философских. Написать письмо, отослать его и ждать непременного ответа – это был процесс, который составлял важную часть бытовой жизни людей, а вместе с тем выступал своеобразным дневником эпохи, описывая ее почти во всех ракурсах – от общественно-психологических до предельно бытовых, семейственных. Эпистолярная культура составляла важную часть общей культуры. Авторы писем той эпохи во многом следовали примерам и родам писем, в том числе появлявшимся в художественной литературе, где переписка героев становилась не только сюжетным приемом, но включала в себя почти все содержание проживаемой персонажами жизни. Эпоха сентиментализма и романтизма дала немало примеров подобного рода текстов в английской, французской, немецкой и русской, конечно, словесности.
В реальной жизни людей письмо становилось важным документом, подчас заменявшим личное общение, несмотря на то, что, казалось бы, адресант и адресат находятся в одном городе и вечером они непременно встретятся на светском рауте или в каком-либо салоне. Этому процессу уделялось значительное время. Стиль и форма эпистолярных посланий постоянно видоизменялись и совершенствовались, происходило следование моде по появлявшимся литературным, в первую очередь, образцам.
В случае с такими действующими лицами эпохи, как В. А. Жуковский, П. Я. Чаадаев, кн. П. А. Вяземский, А. А. Дельвиг, М. Н. Погодин, Д. Давыдов, генерал Бенкендорф, русские императоры, наконец, это также была и форма фиксирования в переписке политической, философской, нравственной, психологической позиции. В определенной ситуации, как, к примеру, переписка между Пушкиным и Чаадаевым – это по-своему целый и значительный период становления русской исторической и философской мысли. При том, что завершающий ответ Пушкина остался не посланным. Этот диалог между выдающимися мыслителями, которому посвящена отдельная глава во второй части книги, осуществлялся именно эпистолярным образом.
Горизонтальная коммуникация в обществе того времени осуществлялась путем постоянно идущего диалога между различными субъектами социума, а в целом этот многообразный и широко разветвленный диалог превращался в п о л и л о г, посредством которого осуществлялся процесс обмена мнениями, оценками, происходило определение общих критериев нравственного поведения, социальной позиции, что, без сомнения, способствовало шлифовке самосознания русского общества. Письма Пушкина играют в воображаемом градуировании эпистолярного наследия эпохи главенствующую роль.
А по российским реалиям это еще были вопросы времени отправки почты в другие города (до 12 дня необходимо было успеть), или, по счастью, случившаяся оказия, то есть едущий в другой город верный человек, с которым можно передать письмо без оглядки на полицейскую перлюстрацию и расписаться куда больше и откровеннее, чем обычно. И точно знать, в какой день надо ждать ответа, так как письма, хотя и через несколько дней, но доставлялись почти вовремя, без опозданий.
С другой стороны, это был способ психологической и культурной «сверки» позиций, выработки общего мнения; через письма шла передача последних сведений о литературных новинках, постановках в театрах, полученных из-за границы книг иностранных авторов, рассказ о последних светских сплетнях.
Таким образом, письмо становилось паллиативным актом не только художественного творчества (независимо от того, писалось ли оно на русском или на французском языках), так как от его автора требовалось хорошее знание правил создания писем, соблюдения известной стилистической чистоты и изящества. Этому можно было обучить. К примеру, письма Натальи Николаевны Гончаровой (и которые были написаны по-французски) производят достойное впечатление своей правильностью композиции, крепкой и точной фразой, что подчас создает несколько превратное представление о ее возможностях адекватно оценивать и осмыслять события, происходившие с нею и А. С. Пушкиным в 1836–1837 годах. Стиль письма подчас умнее самого адресанта. Особенно это характерно для французских версий писем, написанных русскими авторами.
По счастью позапрошлое столетие, не будучи обременено ныне общепринятыми средствами связи, со слабо развитой сетью сообщения между разными городами и странами, создало внутреннюю культурную ситуацию, по которой эпистолярный жанр стал наиважнейшим документом, в котором фиксировались многие бесценные сведения как о личной жизни людей, так и об исторических событиях, психологии поведения людей в разных ситуациях, через них приоткрываются многие тайны совершившихся фактов социальной и исторической жизни прошлых эпох.
Серьезность отношения к письмам проявлялась и в том, что во многих случаях они не писались сразу, набело, а создавалось несколько черновиков (по крайней мере так было в пушкинскую эпоху, и сам поэт именно таким образом писал свои письма (не все, конечно) к задушевных друзьям, соратникам по литературе – кн. П. А. Вяземскому, П. В. Нащокину, В. А. Жуковскому, П. Я. Чаадаеву, А. А. Дельвигу и многим другим. Тем более, когда речь шла о письме к важному лицу по серьезному поводу. Часто письма писались специально для дальнейшей передачи их содержания публике, если изложение событий и их оценка касались крайне важных и существенных сторон жизни всего общества, и авторы писем настаивали на цитировании своих посланий в кругу друзей или просто в «свете»[2].